Прямой эфир 07.05.2019 — Александр Кержаков и Милана Тюльпанова. Что решил суд?
Написано 07.05.2019 в 12:45 · Есть комментарииВ студии ток шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» 7 мая 2019 года Милана Кержакова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова.
Во вторник, 23 апреля, состоялся решающий суд по одному из самых громких и скандальных разводов страны футболиста Александра Кержакова и его теперь бывшей супруги Миланы. Отныне они официально разведены. Целый год вся страна наблюдала за их семейной драмой. Дочь политика и один из самых востребованных футболистов страны делили ребенка, публично обвинили друг друга в изменах, наркозависимости и домашнем насилии.
Сегодня адвокат Александр Добровинский огласит результаты тестов на запрещенные препараты, которые сдала Милана Кержакова по требованию собственного мужа, чтобы доказать, что она в состоянии воспитывать их общего сына Артемия. Впервые после разразившегося скандала вся семья мама, бабушка и родной брат стали на защиту Миланы Кержаковой и прервали свое молчание для того, чтобы рассказать, как их некогда любимый зять Александр Кержаков бросил семью в самое тяжелое время и заставлял Милану на всю страну называть себя наркоманкой. Чем закончится по-настоящему черный месяц апрель для семьи сенатора Санкт-Петербурга на этот раз: окончанием семейной войны или новым витком громкого дела в годовщину гибели отца?
Поделиться в соц. сетях
Комментарии (585)
Свежие записи
- Прямой эфир 11.07.2025 — Круче Илона Маска
- Прямой эфир 10.07.2025 — Сбежала с деньгами
- Прямой эфир 09.07.2025 — На крючке: женские диалоги о рыбалке
- Прямой эфир 08.07.2025 — Американская сестра: встреча спустя 30 лет
- Прямой эфир 07.07.2025 — Богатые тоже плачут: объявилась тайная вдова миллиардера
Свежие комментарии
- к записи Прямой эфир 10.07.2025 — Сбежала с деньгами
- к записи Прямой эфир 18.06.2024 — Без тормозов: экс-футболист сбил человека и скрылся с места ДТП!
- к записи Прямой эфир 25.08.2016 — ДНК для Казановы: брошенные любовницы призывают к ответу отца своих детей
- к записи Прямой эфир 25.08.2016 — ДНК для Казановы: брошенные любовницы призывают к ответу отца своих детей
Прямой эфир° сегодняшний выпуск

Прямой эфир 11.07.2025 — Круче Илона Маска
В студии ток шоу Прямой эфир 11 июля 2025 года разработчик робота-помощника для пожилых людей Ксения Форолова. В сердце ...
Прямой эфир 10.07.2025 — Сбежала с деньгами
В ток шоу Прямой эфир 10 июля 2025 года Татьяна Борическая, она лишилась 1 295 000 рублей (повтор). Женщина ...
Прямой эфир 09.07.2025 — На крючке: женские диалоги о рыбалке
В ток шоу Прямой эфир 9 июля 2025 года к.м.с. по спортивной рыбалке Галина Фадеева, она начала рыбачить ...
Прямой эфир 08.07.2025 — Американская сестра: встреча спустя 30 лет
В ток шоу Прямой эфир 8 июля 2025 года Елена Хартсок, она ищет родную сестру (повтор) На связь вышла ...События

Прямой эфир 02.06.2025 — Новый скандал в семье Надежды Кадышевой
В студии ток шоу Прямой эфир 2 июня 2025 года новые сенсационные признания бывших невесток артистки, а также ...
Прямой эфир 18.03.2025 — Любовь за 300 миллионов: скандал в семье бизнесмена
В студии ток шоу Прямой эфир 18 марта 2025 года Дарья Новикова, она подвергается противоправным действиям и угрозам ...
Прямой эфир 20.02.2025 — Наталья Фатеева прерывает молчание: «Я прошу вас о помощи!»
В студии ток шоу Прямой эфир 20 февраля 2025 года народная артистка РСФСР Наталья Фатеева. Несколько дней назад в ...
Прямой эфир 20.11.2024 — Страна прощается с легендой группы «На-На» Владимиром Левкиным
В ток шоу Прямой эфир 20 ноября 2024 года друзья и коллеги вспоминают Владимира Левкина. В воскресенье 17 ноября ...Архив
- Июль 2025
- Июнь 2025
- Май 2025
- Апрель 2025
- Март 2025
- Февраль 2025
- Январь 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Октябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Август 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Февраль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Ноябрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
- Декабрь 2021
- Ноябрь 2021
- Октябрь 2021
- Сентябрь 2021
- Август 2021
- Июль 2021
- Июнь 2021
- Май 2021
- Апрель 2021
- Март 2021
- Февраль 2021
- Январь 2021
- Декабрь 2020
- Ноябрь 2020
- Октябрь 2020
- Сентябрь 2020
- Август 2020
- Июль 2020
- Июнь 2020
- Май 2020
- Апрель 2020
- Март 2020
- Февраль 2020
- Январь 2020
- Декабрь 2019
- Ноябрь 2019
- Октябрь 2019
- Сентябрь 2019
- Август 2019
- Июль 2019
- Июнь 2019
- Май 2019
- Апрель 2019
- Март 2019
- Февраль 2019
- Январь 2019
- Декабрь 2018
- Ноябрь 2018
- Октябрь 2018
- Сентябрь 2018
- Август 2018
- Июль 2018
- Июнь 2018
- Май 2018
- Апрель 2018
- Март 2018
- Февраль 2018
- Январь 2018
- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Октябрь 2017
- Сентябрь 2017
- Август 2017
- Июль 2017
- Июнь 2017
- Май 2017
- Апрель 2017
- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Сентябрь 2016
- Август 2016
- Июль 2016
- Июнь 2016
- Май 2016
- Апрель 2016
- Март 2016
- Февраль 2016
- Январь 2016
- Декабрь 2015
- Ноябрь 2015
- Октябрь 2015
- Сентябрь 2015
- Август 2015
- Июль 2015
- Июнь 2015
- Май 2015
- Апрель 2015
- Март 2015
- Февраль 2015
- Январь 2015
- Декабрь 2014
- Ноябрь 2014
- Октябрь 2014
- Сентябрь 2014
- Август 2014
- Июль 2014
- Июнь 2014
- Май 2014
- Апрель 2014
- Март 2014
- Февраль 2014
- Январь 2014
- Декабрь 2013
- Ноябрь 2013
- Октябрь 2013
- Сентябрь 2013
- Август 2013
- Июль 2013
- Июнь 2013
- Май 2013
- Апрель 2013
- Март 2013
- Февраль 2013
- Январь 2013
- Декабрь 2012
- Ноябрь 2012
- Октябрь 2012
- Сентябрь 2012
- Август 2012
- Июль 2012
- Июнь 2012
- Май 2012
- Апрель 2012
- Март 2012
- Февраль 2012
- Январь 2012
- Декабрь 2011
- Ноябрь 2011
- Октябрь 2011
- Сентябрь 2011
- Август 2011
- Июль 2011
- Июнь 2011
- Май 2011
- Апрель 2011

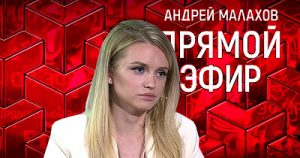
Пусть чаще показывают такие истории в назидание молодым девчонкам.Что семейная жизнь это не белое платье…и унижения встречается довольно часто.Поэтому надо тщательно выбирать человека и не спешить с выбором.Не влюбляться,а наблюдать.
Что ж эта «девчонка» к Малахову-то прибежала жаловаться?Тоже спешит в медиа пролезть?
Ирма,странный совет.Девочки.выходя замуж-не влюбляйтесь.Ни в коем случае!ну,ее,эту влюбленность…Какая любовь ,вы замуж выходите!Наблюдайте и трезво все рассчитывайте.Берите счеты и считайте.Как кроты в Дюймовочке.А вот сейчас посчитаем…еу,ла.мне не любить бы,да как не любить?
Ага,девочки Вас так и послушают.
Нам то же самое мамы говорили,мы их слушали?
Милана эта, уверена, сама заарканила Кержакова, а Тюльпанов ему наобещал с три короба…
Тюльпанов сам-то тёмная лошадка,физиономия у него-истинного бандюгана, да и умер как бандит, в баньке, с девочками,ударился головой о кафель на полу.
Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские
слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ
битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».
Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью:
арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в
острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного
занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в
остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой,
сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу,
насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь
нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь
развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и
понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может
жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге,
вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел
свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся
казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой
арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в
остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому
почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую.
Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при
себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но
работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не
очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но
учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и
сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и
золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все
они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги
есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно
свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он
уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде
можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно
было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили.
Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от
преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке.
Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались
внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и — как ни прятались деньги, а
все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а
вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого
обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал
обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись
недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И
начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая
жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.
Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно
оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались
иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами
острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но
каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в
цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели
совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось
грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант,
замотавшийся и разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от
него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи
в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до
того процветало, что принимались под залог даже казенные смотровые вещи,
как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому
арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот
дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги
немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему
начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же
отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству.
Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и
угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет.
Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы
так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так
только, для очистки совести.
Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой
сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не
спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня
один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой
натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь на
каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея
меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и
быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она
довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и
потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в
острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то
особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги,
выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором
плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по
призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность,
хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то
вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в
остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того
кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким
образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что все
время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с
западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и
пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся
розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина
обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он
был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и
зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по
целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал… Благодаря этим-то
личностям вино не оскудевало в остроге.
Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но
постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не
имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш.
Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и
калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах,
арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решоных,
было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну.
Если недостанет на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть
частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как
я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в
острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне
прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже
видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под
судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там
лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали.
Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же
остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та
бросилась бежать за мной… «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!
» — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее
копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку
я долго берег у себя.
II
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются
теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в
воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались,
слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое,
однообразное, удушающее.
Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне
теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.
Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как
будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или,
лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной
в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но
скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала
останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже
довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю
неожиданность такого существования и все более и более дивился на него.
Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей
каторги; я никогда не мог примириться с нею.
Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое
отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в
остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и
в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали
на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень не многие), а по ночам
иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так
тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость
и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее,
сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на
воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам,
особенно летом; он работает на себя, работает с разумною целью, и ему
несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так
что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его
заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей
бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна
и скучна для каторжного, то сама по себе, как работа, она разумна: арестант
делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и
цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее,
спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного
ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу
земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы
через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть,
да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание
обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не
достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки,
бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной
работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно
тем, что вынужденная.
Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел
понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости
казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые
казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег,
нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день
был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог
рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой
своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть
арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам
острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если
навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты
последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать.
Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы,
в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие.
Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в
других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось
бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку,
хотя, конечно, большею частью бессознательно.
Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли,
что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь
судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную
пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную
пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство
же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не
выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы
голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и
этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных
печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка
заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня
ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на
это никакого внимания.
Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким
новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне
пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные,
кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу.
Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из
колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся
к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.
Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот
барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал
отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой
сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая
часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили
свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота
была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее
отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились
арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе
руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой
казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в
казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло
в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в
приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра —
утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.
— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант,
сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом
черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом,
— постой!
— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь,
монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.
«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того
только и надо было толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде
добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим
презрением.
— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на
острожном чистяке! 1 Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.
—-
1 Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Прим. автора.)
Толстяк наконец рассердился.
— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.
— То и есть, что птица!
— Какая?
— Такая.
— Какая такая?
— Да уж одно слово такая.
— Да какая?
Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки,
как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет
драка. Для меня все это было ново, и я смотрел с любопытством. Но
впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и
разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же
никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало
нравы острога.
Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него
смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было
поддерживать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая
именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника,
стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху
вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно
произнес:
— Каган!..
То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал
находчивость арестанта.
— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался
на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.
Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.
— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.
— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за
угла.
— Да, держи, подерутся! — раздалось в ответ. — У нас народ бойкий,
задорный; семеро одного не боимся…
— Да и оба хороши! Один за фунт хлеба в острог пришел, а другой —
крыночная блудница, у бабы простоквашу поел, зато и кнута хватил.
— Ну-ну-ну! полно вам, — закричал инвалид, проживавший для порядка в
казарме и поэтому спавший в углу на особой койке.
— Вода, ребята! Невалид Петрович проснулся! Невалиду Петровичу,
родимому братцу!
— Брат… Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! — ворчал
инвалид, натягивая в рукава шинель…
Готовились к поверке; начало рассветать; в кухне набралась густая толпа
народу, не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых
шапках у хлеба, который резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались
артелью, в каждую кухню по двое. У них же сохранялся и кухонный нож для
резания хлеба и мяса, на всю кухню один.
По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в
полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми
стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и
шум был нестерпимый; но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по
углам.
— Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй! — проговорил молодой
арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта.
— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — проговорил тот, не поднимая глаз и
стараясь ужевать хлеб своими беззубыми деснами.
— А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер; право-ну.
— Нет, ты сперва помри, а я после…
Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта,
видимо стараясь друг перед другом сохранить свою важность.
— У меня небось не украдут, — говорил один, — я, брат, сам боюсь, как
бы чего не украсть.
— Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу.
— Да чего обожжешь-то! Такой же варнак; больше и названья нам нет…
она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась.
Намедни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу; у
него еще в форштадте дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида купил, вот еще
который потом удавился…
А что тут «наблюдать»? Пока старой девой не станешь и не состаришься?
Вышла за богатого и знаменитого! И в чём здесь «унижения»!
Сорвала джекпот, повезло. Покупалась в роскоши и богатстве. Всё остальное — издержки, за которые тоже приходиться иногда платить.
Ничего так,что она была дочерью депутата Тюльпанова,который занимал наивысшие должности в законодательном собрании Петербурга?Так что кто тут кого использовал,спорный вопрос…Я эту мадам не защищаю,она гнобила предыдущую жену за тоже самое,от чего теперь сама страдает…Бабы дуры,думают,что если мужик предыдущую жену херачил,то с ней такого не будет,она,типа, особенная и лучшая…ну-ну… А Кержаков мерзкий тип,хочется посмотреть на очередную придурочную,которая с ним свяжется…
За то красивый и сексуальный мужчина!А за это можно почти все простить
Ну да,когда будет у очередной дуры ребенка отбирать,исключительно для того,чтобы алименты бешеные не платить,думаю о его сексуальности и красоте она думать не будет
Тюльпанов возглавлял ЗАКС СПб,потом стал сенатором от СПб. И женился Кержаков не на Милане,а на папе сенаторе,поэтому и затеял развод сразу после похорон тестя. Очень мерзко выглядит этот футболист на фоне скандалов с бывшими жёнами,жаден до патологии: легче нанять детям няньку за полтинник,чем платить женам миллионные алименты,вот он и распихивал их по психушкам,а детей забирал. Дёшево и сердито. Интересно,а как суд всегда вставал на его сторону и на сторону его липовых справок?
Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские
слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ
битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».
Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью:
арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в
острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного
занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в
остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой,
сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу,
насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь
нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь
развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и
понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может
жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге,
вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел
свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся
казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой
арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в
остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому
почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую.
Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при
себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но
работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не
очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но
учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и
сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и
золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все
они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги
есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно
свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он
уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде
можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно
было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили.
Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от
преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке.
Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались
внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и — как ни прятались деньги, а
все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а
вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого
обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал
обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись
недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И
начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая
жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.
Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно
оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались
иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами
острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но
каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в
цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели
совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось
грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант,
замотавшийся и разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от
него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи
в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до
того процветало, что принимались под залог даже казенные смотровые вещи,
как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому
арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот
дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги
немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему
начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же
отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству.
Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и
угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет.
Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы
так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так
только, для очистки совести.
Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой
сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не
спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня
один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой
натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь на
каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея
меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и
быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она
довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и
потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в
острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то
особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги,
выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором
плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по
призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность,
хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то
вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в
остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того
кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким
образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что все
время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с
западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и
пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся
розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина
обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он
был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и
зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по
целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал… Благодаря этим-то
личностям вино не оскудевало в остроге.
Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но
постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не
имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш.
Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и
калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах,
арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решоных,
было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну.
Если недостанет на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть
частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как
я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в
острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне
прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже
видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под
судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там
лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали.
Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же
остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та
бросилась бежать за мной… «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!
» — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее
копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку
я долго берег у себя.
II
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются
теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в
воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались,
слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое,
однообразное, удушающее.
Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне
теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.
Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как
будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или,
лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной
в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но
скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала
останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже
довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю
неожиданность такого существования и все более и более дивился на него.
Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей
каторги; я никогда не мог примириться с нею.
Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое
отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в
остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и
в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали
на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень не многие), а по ночам
иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так
тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость
и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее,
сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на
воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам,
особенно летом; он работает на себя, работает с разумною целью, и ему
несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так
что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его
заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей
бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна
и скучна для каторжного, то сама по себе, как работа, она разумна: арестант
делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и
цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее,
спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного
ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу
земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы
через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть,
да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание
обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не
достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки,
бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной
работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно
тем, что вынужденная.
Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел
понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости
казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые
казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег,
нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день
был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог
рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой
своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть
арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам
острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если
навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты
последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать.
Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы,
в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие.
Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в
других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось
бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку,
хотя, конечно, большею частью бессознательно.
Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли,
что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь
судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную
пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную
пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство
же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не
выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы
голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и
этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных
печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка
заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня
ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на
это никакого внимания.
Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким
новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне
пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные,
кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу.
Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из
колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся
к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.
Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот
барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал
отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой
сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая
часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили
свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота
была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее
отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились
арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе
руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой
казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в
казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло
в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в
приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра —
утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.
— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант,
сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом
черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом,
— постой!
— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь,
монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.
«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того
только и надо было толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде
добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим
презрением.
— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на
острожном чистяке! 1 Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.
—-
1 Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Прим. автора.)
Толстяк наконец рассердился.
— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.
— То и есть, что птица!
— Какая?
— Такая.
— Какая такая?
— Да уж одно слово такая.
— Да какая?
Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки,
как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет
драка. Для меня все это было ново, и я смотрел с любопытством. Но
впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и
разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же
никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало
нравы острога.
Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него
смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было
поддерживать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая
именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника,
стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху
вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно
произнес:
— Каган!..
То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал
находчивость арестанта.
— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался
на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.
Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.
— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.
— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за
угла.
— Да, держи, подерутся! — раздалось в ответ. — У нас народ бойкий,
задорный; семеро одного не боимся…
— Да и оба хороши! Один за фунт хлеба в острог пришел, а другой —
крыночная блудница, у бабы простоквашу поел, зато и кнута хватил.
— Ну-ну-ну! полно вам, — закричал инвалид, проживавший для порядка в
казарме и поэтому спавший в углу на особой койке.
— Вода, ребята! Невалид Петрович проснулся! Невалиду Петровичу,
родимому братцу!
— Брат… Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! — ворчал
инвалид, натягивая в рукава шинель…
Готовились к поверке; начало рассветать; в кухне набралась густая толпа
народу, не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых
шапках у хлеба, который резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались
артелью, в каждую кухню по двое. У них же сохранялся и кухонный нож для
резания хлеба и мяса, на всю кухню один.
По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в
полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми
стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и
шум был нестерпимый; но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по
углам.
— Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй! — проговорил молодой
арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта.
— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — проговорил тот, не поднимая глаз и
стараясь ужевать хлеб своими беззубыми деснами.
— А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер; право-ну.
— Нет, ты сперва помри, а я после…
Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта,
видимо стараясь друг перед другом сохранить свою важность.
— У меня небось не украдут, — говорил один, — я, брат, сам боюсь, как
бы чего не украсть.
— Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу.
— Да чего обожжешь-то! Такой же варнак; больше и названья нам нет…
она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась.
Намедни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу; у
него еще в форштадте дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида купил, вот еще
который потом удавился…
Марина Дубровская-пример для адвоката.
Когда-то она заявляла, какая наркоманка и плохая мать Сафронова. Хорошо, что сделала главный вывод из этой истории: мужчина всегда будет относится к нынешней жене так же, как и к предыдущей. Хорошо бы всем женщинам об этом помнить. Если гулял и ушел из семьи, то укатится колобком опять. если бил бывшую, то будет бить и следующую жену, даже если она в паранже будет ходить и верить, что не будет битая, если повода для ревности не давала. И дальше по списку.
Помнится,как эта Тюльпанша пела в одну дуду,когда он обвинял свою предыдущую жену в наркомании и отбирал у нее ребенка,теперь сама в такой же ситуации,бумеранг однако…А Кержа самого надо проверить,как минимум на употребление наркоты…
мы всегда думаем что мы лучше, что у нас будет все по другому. Но если это ублюдочное чудовище в бутсах был домашним маньячиной так и останется .
Кержу крупно повезло,что папаша Тюльпановой безвременно покинул этот мир,иначе он бы сделал все,чтобы этот ублюдок не мяч пинал,а отдыхал в местах не столь отдаленных…
Если бы папаша не умер, то он бы вел себя паинькой. такие обычно над слабыми издеваются, сильных они боятся и по струнке ходят
Как только включила передачу,на 3й мин. отключила. Меня бесит в прямом смысле,когда передачу переносят за круглый стол и ведут ТЕТаТЕТ беседу. Мы телезрители для чего им нужны? Скажу честно,мне не жаль Тюльпанову совсем. Она,выходя замуж,знала за кого шла.Хотя бы из истории его предыдущего брака. Счастливой семьи не получилось,но последовал развод. Хорошо ,хоть сынишка с ней,не то что с первой женой. У той не было ни денег,ни защиты,и не было такого адвоката,как Добровинский. Этот адвокат знает свою работу.
Она уже третья жена.Первая была Мария Голова с Мончегорска.Там более- менее тихо развод прошел.Дочка осталась с Марией.
ржу! » я пришла показать, что всего можно добиться если бороться»
Она вроде как адвоката не на помойке нашла…
не бывает в разводах/судах/дележе детей виноватого одного… кмк виноваты оба .
Кержаков хотя бы деньги заработал своими ногами/физическим трудом , a Tюльпановой все с неба свалилась … избалованная дама — столкнулась с реалиями жизни , они оказались совсем не такие , как ей казалось из сладкой ваты (((
о Добровинском особый разговор : таксовал в США , а теперь раскрутился : богатые и знаменитые передают его из рук в руки … за малый гонорар не почешется )))
Galenduha:,Добровинский -грамотный .адвокат.В отличие от многих.А если платят-что же ему,отказываться?Но вот с Майором Алисой нервы у него сдают.ято ли.Какие -то глупости стал говорить,типа,Аршавин хочет быстрого развода.Как будто кто-то хочет долгого..Но с Майором неудивительно,она кого хочешь доведет.
позвольте заменить слово «грамотный»
на «распиаренный»
мне неприятна его манера поведения/снисхождение/превосходство над “людишками”(((
берётся кмк только за дела заведомо выигрышные … ( бабло рулит и в юриспруденции , айсберг ))) на поверхности 1/7…
Милана как я за вас рада. Это сейчас большая проблема, когда отцы выигрывают суды по той или Инной причине. У меня такая история. Помогайте таким женщинам. Юридические советы и так далее. Удачи вам
Я понимаю.о чем пишу.Именно грамотный.Дело Байсарова-классика.Все четко,филигранно и по закону.Красота.И это дело не было выигрышно заранее.А дело Фетисова?Это такая же классика.И я бы не сказала.что дело Майора Алисы-выигрышное.50 процентов Аршавин уже платит,и более никто не застваит его платить.
«классика» дела Байсарова в чем?
сын остался с отцом, вот и весь итог…
громкое дело бывшей супруги И. Резника тоже проиграл… а каким надменным выглядел в студии, мамадарахая )))
поиск внебрачных детей С. Милулина тоже не увенчался успехом…
как за каждым оперирующим хирургом есть своё маленькое кладбище, так за каждым адвокатом , самым распиаренный — есть свои проигравшие клиенты
Дубровинский-модный, медийный, но никак не грамотный.Грамотный не будет пиариться в желтушных шоу.Вспомните, когда это Резник или Падве сидели у Малахова.Они не подпускают к себе прессу,работают молча и эффективно.Поскольку судейская система в России коррумпирована, то с ней легко договориться таким, как Дубровинский.Это решение суда первой инстанции, но Керж наверняка подаст апелляцию.Будем посмотреть.
Наталья:,гонорары Добровинского не снились ни Падве,ни Резнику.Добровинский может себе позволить развлечься.Он именно развлекается.ему медийность уже не нужна.
Добровинскому не снились гонорары Резника и Падве, а не наоборот.Медийность ему очень нужна, потому как он по совместительству барыга.
Елена Мирт, мне кажется, Добровинский не ‘просто развлекается’, а извлекает существенную пользу для себя и клиентов:
1.На данной передаче он произнес: ‘Я уговариваю Милану подать заявление на возбуждение уголовного дела за поддельную справку из наркоцентра Пьехи’…
В одном емком предложении мэссэдж противной стороне — ‘не подавайте аппеляцию, а то….’
А также Пьехе — проверь свой центр, будь на нашей стороне, опровергни легитимность той справки и т.п…. Лишнее внимание или проверки этому центру не нужны. ..
2. Судьи, слушающие дела с его участием, понимают, что они ‘на виду’…
3. Состоятельная клиентура понимает эти его возможности. ..)
Я не знаю, конечно, какие у кого гонорары, но, уверена, — огромные.. Он же еще специалист по международному праву.. Водянову разводил с английским лордом очень успешно. .
Человек, безусловно, умный…)
Фамилию адвоката с ошибкой написала:ПадвА.
Машинально написала,вспомнив пропавшего без вести главного режиссёра театра на Рубинштейна,нынешнего Театра Европы, Ефима Падве.
Ничего,Наталья!Я тебе прощаю все твои ошибки и эти тоже.Всякий может ошибатся,ты и сама признала свои ошибки с которыми написала этот пост.Значит тоже ни совсем уж такая грамотная.Но это поправимо.Главное добра,а все остальное наладится.С праздником!
Пиетет не позволяет молчать.Один жив,другой умер.Написание фамилий не является ошибкой,да будет тебе известно,заслуженная поломойка Татарстана.Просто и того, и другого знала, с одним был связан муж, к другому я на спектакли ходила и считала его театр лучшим в Питере.Я перед ними извиняюсь, а не перед тобой.
Не знаю кто уж там тебе не позволяет «молчать» мне он незнаком.Но ругатся сегодня я не собираюсь даже с тобой в честь праздника.ДОБРА И ЛЮБВИ!
Это не праздник ЛЮБВи и ДОБРА- это праздник со слезами на глазах.
Во все времена бессмертной Земли
помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,—
о погибших
помните!
Встречайте трепетную весну,
люди Земли.
Убейте войну,
прокляните
войну,
люди Земли!
Ты бы,Чудище, прочла внимательно «Реквием» Рождественского что ли.22 миллиона погибших слушают сегодня ваши истеричные поздравления по поводу ЛЮБВИ и ДОБРА-слоган очумевшей от жары Милки.Им вы то же пожелаете?Неужели мозги пропили и не понимаете, что война-это беда, а не добро,смерь-это трагедия, а не Любовь.По-вашему выходит, что миллионы убитых боролись с ДОБРОМ и ЛЮБОВЬЮ, положив свои головы по всему миру???!
Люди потому и желают друг другу МИРА ЛЮБВИ И ДОБРА,чтобы подобные трагедии больше не повторялись!И все почтят минутой молчания милионы погибших сегодня вечером.Наши деды и прадеды и погибли в эту войну чтобы мы смогли жить и радоватся!О какой «борьбе» ты речь ведеш,змея очковая?!Сегодня наоброт все сплочаются как никогда во имя любви и добра,вспоминая погибщих героев и радуясь жизни!Изыди уже!Я ничего больше отвечать не буду тебе!В полк сегодня пойду бесмертный,где тебе,злыдня не место.Изрыгайся здесь,другим воздух порти!
И что характерно-для вас, как и для Порошенко, 8 мая- день памяти и примирения, ибо именно восьмого в темах форума появились поздравлялки с днём ЛЮБВИ И ДОБРА.Стереть из памяти людей праздник со слезами на глазах и превратить его в пир во время чумы, как ты говоришь,»жить и радоваться.»
Нет,это тебе не Хохляндия, такие номера в России не пройдут.
Не мишай сюда сво
Дорогая Андромеда!
Смысла никакого нет что либо доказывать хавронье, она все равно найдет повод прицепиться, извратить суть слов, найти какой-то, одной ей ведомый «смысл» и подтекст, которого, конечно, нет и близко…и только больная фантазия способна его найти.
Давайте просто пожелаем ей так необходимого ЗДОРОВЬЯ И ДОБРА С ЛЮБОВЬЮ КО ВСЕМ!!!
ЕЩЕ РАЗ ВСЕХ С ВЕЛИКИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИЦУ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ТАТАРСТАНА АНДРОМЕДУ (ИЛЬГИЗОВНУ)!!!
ПОЗОР ПРОТИВНИКАМ ЭТОЙ АКЦИИ!!!
не, начала смотреть светскую льицу , и выключила …
тысячи наших женщин испытывают бОльшие трудности в нашей непростой жизни , а ведь им ещё надо на хлеб насущный заработать и живут они в совсем других условиях(((
мне не понять страданий этих львиц, не мое это …
Как будто нет тем более важных. Сколько событий происходит в стране каждый день, а тут опять семейный скандал богатеев.
Как нет важных тем, есть! Сегодня у всех православных праздник — Радоница!
Нэт, «Православная» не в курсе 🙂 заходит на форум исключительно поругаться 🙂
Причем заходит иногда ‘чудесным образом’ в самый подходящий для ‘некоторых’ момент…))))
Я ее приняла в прошлой теме совсем за другую Валентину. ..(((
9 Мая на пороге! у меня, как у нас многих, воевали бабушки и дедушки. с возрастом еще больше понимаю масштаб трагедии этой войны. столько много разных поучительных и интересных военных историй… недавно ушли Э. Быстрицкая, В. Этуш… но у нас есть еще живые легенды театра и кино, которые воевали…
С наступающим праздником всех присутствующих на форуме! С Днем Великой победы всех народов из СССР :)))!
Lenok, Приветствую Вас.
Вас, Ваших Родных и близких поздравляю
с Праздником Победы!
Всем мирного неба над головой и прекрасной весны!️
Хала, ты тут, как главная бандерша-солоха, уж лучше б не ёрничала, да над святым не измывалась!
Лицемерши, сбившиеся в стаю.
Сударыня, недавно с передовой? Тогда с возвращением и привыкайте к мирной жизни:)
«Сударыня», ЛЮБВИ ВАМ И ДОБРА! )
‘ХАЛА’… ‘БАНДЕРША’…
НЕ ДОПУСТИМ НАЦИСТСКИХ ОСКОРБЛЕНИЙ!
НАЦИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!
ПОДДЕРЖИВАЮ!
Галина (СПб), спасибо за поздравление. Вас с Днем Победы и, конечно, мирного неба всем нам:)))
Поздравляю всех с праздником Победы!
Девочки, Мила, Юля, Галина, Ленок, Фемида, Андромеда, желаю вам и всем тепла, любви, мира в семьях и душе, весеннего настроения и крепкого здоровья!!!
https://youtu.be/QtlYrHO9M7s
Ника, С Праздником!⭐
Всех Форумчан с Праздником!
Мирного Неба ВСЕМ
и ДОБРА! ️☀️
Дорогие девочки!!
Всех с наступающим праздником Победы!
Всем любви и добра, мира , света, здоровья и радости!
Присоединяюсь!!! )))))
Мы сильны своей родовой памятью!)))
Поздравляю всех форумчан! )))
Спасибо, с праздником!
https://youtu.be/XRwF8qCAmQg
Ника, спасибо. С праздником
Спасибо вам,единомышлиницы!За поздравления и за взаимопонимание между нами!Вам всем тоже всего наилучшего,здоровья,мира и хорошего весенего настроения.И конечно же ЛЮБВИ И ДОБРА!
развелось этих неизвестных знаменитых футболистов , зачем кому то слушать о их личной жизни
Какая то тюльпана миланова ещё откуда не возьмись
А патамушта надо слушать бабушку Марго.)))
Когда Керж разводился с предыдущей женой, Катей Софроновой и так же мучил ее, я сразу сказала, что это сволочь. И Милане надо держаться от него подальше.
Жаль, что иначе, чем таким способом, Милане нельзя было открыть глаза, любые слова о неправильном выборе были бы бесполезны.
Дай бог, все у Миланы будет хорошо.
А про Кержа, что это ……, мне еще в 2000-ых говорили знакомые с ним люди.
Нашла выпуск от 05.10.16 «мачехи звездных детей».
Мой пост можно найти одним из последних.
Не в бровь, а в глаз.
Марго, но Вы тоже говорили, что мужчина с новой женой/любимой будет вести себя не так, как с предыдущей. А так, как заслуживает нынешняя…
Конечно, но не в том случае, если мужчина закоренелая сволочь. Я говорила о том, что женщина неизбежно влияет на мужчину, и во многом отношения будут зависеть от нее — бытовые, микроклимат в семье.
Но также я говорила, что если мужчина вел и ведет себя не порядочно, что прямо бросается в глаза, ведет себя подло и по-скотски — это уже характер, и надо уметь распознавать козла и ни в коем случае его к себе не подпускать и даже не начинать отношения.
Почему вы не замечали вторую часть моих посылов?)))
Надо понимать, где в отношениях разногласия темпераментов, характеров и взглядов на жизнь, потому отношения не сложились, а где — порочность, невоспитанность и нездоровый эгоизм.
Именно об этом я и писала — от женщины зависит, в какие отношения она попадает, и я на этом настаиваю.
Почему-то ко мне подобная грязь не липнет. Типы, подобные Кержу, были бы отсеяны на этапе «подошел, замычал», там все на роже написано.
А вот с нормальным парнем, у которого есть недостатки, можно было начать отношения и повлиять на него положительно.
Одно дело, не порочный от природы человек, запутавшийся. И другое — сволочь.
Желаю девочкам думать головой, а не тем, что между ног. )
Марго, дорогая, замечаю 🙂
Не знаю, то ли мне везет 🙂
Или что-то другое, но в семье получилось…
С мужем — да, с родственниками пока нет 🙁
Вот я и говорю: лицемерши! И с мужем — тоже нет! Страпоны одни!
Елена, я уверена, что с вашими благоразумием и тактом наладить отношения м родителями мужа вопрос времени…)
Если же у него есть дети от предыдущего брака, то понятно, что они находятся под влиянием своей матери. .. И ‘необъятного не объемлешь’…)
В аналогичной ситуации мне удалось даже эпизодическим общением как-то понизить градус напряженности…
Но мне тоже везет по жизни…)))
Такая здесь сложилась странная обстановочка, что даже жизненным опытом опасно обмениваться. …)))))))
Напишешь про ‘вид из окон’ — припишут ‘целлюлит’ с негром впридачу…….))))
Точно, Мила, иной раз захочешь что-то написать или обсудить, но 100 раз подумаешь, стоит ли… мусолить долго могут, да еще с вариациями, о которых и фантазии не хватит додуматься.
Ника, у кого что в голове, то он себе и представляет. ..)))
Мужчина с женщиной ведёт себя так, как она позволяете вести с ней.За всю жизнь ни один мужик руку на женщину не поднимет, если она ведёт себя соответствующе.
Вглядитесь в лицо «девочки Миланы».Там же написана вся история их отношений.Сначала депутатское дитя знаменитому футболисту прохода не давала, караулила его во всех закрытых клубах, потом по пьяне переспала, потом папа-депутат нарисовался с ультиматумом»женись или пожалеешь,патамушто соблазнил мою клюкувку», а потом-внезапная его смерть- и-развод по-итальянски.
Наталья , +++++
вляпался Кержач… его миллионы тьфХу, против миллионов чиновника высокого ранга )))
ох, cлаб человек )))
Согласна.
Замужество — это, как лотерея. Кому повезет, кому нет. А вот дележка детей очень не правильное решение. Детям нужен отец и мать. К сожалению у нас есть пример Кафельниковой, когда дети ищут разные пути привлечь к себе внимание родителей .
Замужество — это НЕ лотерея.
Пока нашим девочкам втемяшиаают в голову, что брак- это сказка, должер пиискакать прынц и все разрулить, что от женщины ничего не зависит — до тех пор будут нессастливые браки, потому что девочки,да и мальчики, заключая их, не очень понимают, что это такое.
Брак — это труд, физический и психологический. И психологический — больше с женской стороны, так как именно от того, как будет себя вести женщина, и будут складываться отношения.
Меня почему-то не только родные мужчины ни разу пальцем не тронули, но и чужие боятся.)))
А все потому, что знают — я себя люблю,и одно неверное шевеление в мой адрес — адьос без единого слова.
И никакой лотереи. Анализ поведения мужчины даже при наличии сильных чувств, подробный мониторинг его прошлого (чтобы не было некрасивых историй), выбор в мужья порядочного и хорошего человека, правильное СОБСТВЕННОЕ поведение — и тогда действительно, не брак а сказка!!!
По поводу того, что сказал Малахов, что если Кержаков увидит, что Милана стала другой, сильной и независимой, то может пожалеть о разводе и вернуться. Милана, не дай бог вернуться к нему. Этот человек низкий, подлый и никогда не изменится. Он со временем опять подомнет под себя и будет вытворять все, что захочет, — измены, скандалы, оскорбления и унижения. С таким будет жить та, которую любить будет он, а она нет.
по поводу того, что сказал Малахов можно не париться: передача явно заказная …
если «наследница отцовских мУльЁнов» не засветится на федеральном канале, она всего лишь богачка, о которой мало кто знает …
теперь она медийная личность )))
пару слов в ответ на другую тему:
касаемо покойной народной артистки Э. Быстрицкой…
не надо быть пророком — где делёж наследства не по деЦки((( там ПГ, ждём)с)
если серьезно- смотрите Тихий Дон и больше ничего не надо говорить!!!
На медийную личность она не потянет. Нет ярко выраженной харизмы, внутренней энергии…
Как говорят, ни рыба, ни мясо.. Не вызвала у зрителей «ни любви ни ненависти».. А, в идеале для медиа, аудитория должна была распределитья так
Но сама история поучительная…)
….распределиться….
Mила, если вы заметили после «медийная личность» стоят скобки, что означает иронию по отношению к ГГ…
она не тянет на «личность» вообще, но это неважно : СМИ и ТВ раскручивали тех, кого надо раскрутить , увы это так !
примеров приводить не буду, ибо… зрители шоу знают много таких персон .
Раскручивают, когда платят..
Но рекламодатели платят больше..)
Очень важны рейтинги. Т.В. прекратит существование, если зритель уйдет в и-нет.
У молодежи нет сейчас телевизоров. .
Проще всего смотреть рейтинги на ю-тубе.
Наивысшие у бредового Гогена.. Кому он нужен, его ‘раскручивать’?
Чем-то зацепил значительную часть аудитории..
Милана не ‘зацепит’..
ИМХО, если у ю- туб канала Собчак будет больше просмотров чем у Малахова — возьмут Собчак..
Сейчас у ‘России’ 12% ТВ зрителей по отчетам..
Хотят они их потерять??? Скоро цифровое ТВ всех пересчитает..) Посмотрим, будут ли изменения. .
Мила, спорить не стану…с чем-то согласна, с чем- то не очень…
но не могу не сказать:
1.в России не скоро поголовно перейдут на цифру… особенно мы- зрители ПЭ.
2.наше/иХнее кредо — не важно как проголосуют, важно как посчитают)))»тому в истории мы тьма примеров слышим» не далее как…
в остальном все так !
пользуюсь случаем поздравить бОльшее количество народу, кроме тех кого знаю лично, поздравляю всех присутствующих в виртуале с праздником … прекрасно знаю , что за каждым безликим ником стоят реальные люди .
счастья Вам, Мила, и всем-всем !!!
именно к 9мая у нас зацвели фруктовые деревья и распустились весенние цветы!
счастья и мира !!!
Я, упоминая цифровое ТВ, имела в виду, что подсчет зрителей будет точнее, чем это делает сейчас рейтинговое агентство. ..)
Надеюсь, рук-во каналов — не самоубийцы… )))
Иначе лет через 5 никто не включит их кнопку. ..)
Лично я Малахова смотрю раз в неделю от силы…))))
Комментом просто развила ваши мысли…)
Всех с наступающим Праздником!!!)))))
Не мишай сюда свой мохровый национализм!Не разжигай вражду!МИРА ДОБРА И ЛЮБВИ!Как здорово это Мила пожелала и открыла путь к ДОБРУ!
Андромеда, плюньте на неё, не портите себе настроение в такой день!
Горбатого могила исправит.
С Днём Победы, дорогие форумчане!
Девушки, мы сильны памятью своего рода!
За нами поколения победителей!
Ура!!!!!
Дурашка,этот слоган- «МИРА, ДОБРА и ЛЮБВИ»-Милка позаимствовала у Потрошенко,который поздравил этими словами воинов УПА с победой над нацизмом.На форуме нашлось только 5 дур, которые все стали повторять его.Вспомним их поимённо:
Андромеда, Фемида,Ника,Хала,Юля.Ещё Ленок,сидя в США, да Елена Первая из Харькова,ну,разумеется, и сама Милка.
Остальные форумчане всё ж таки помнят,что
Этот день Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
С Праздником Победы, Наталья!
Можно понять поздравления с Новым Годом, 8 Марта, 23 февраля,1 мая, но здесь вы себя поздравляете!Вы воевали,»пол-Европы по-пластунски пропахали»,в танках горели, в траншеях лежали?Если бы вы поздравляли ветеранов и благодарили их за Победу,было бы понятно, но за какие заслуги вы друг друга поздравляете???Комедию ломаете из святого праздника.
ЛЮБВИ ВАМ И ДОБРА! )
Девочки, присоединяюсь к поздравлениям,всех с главным Праздником- Днём Великой Победы!!!
Счастья и всегда мирного неба над головой!
Вечная память нашим дедам и прадедам.
Да-а-а-а-а!!!!
Собрался отряд тупоголовых куриц с мозгами уборщицы, которая, кстати, не так глупа, как может показаться на первый взгляд, читая её тупые, безграмотные бредни. Она по-тихому, по-тихому, а начала возглавлять эту банду солох, из-под тишка с недельку им поддакивая. Они на неё и повелись, как всегда у них: кто глупее и бездарнее напишет — тот и хоть временный, но лидер. Пока другая новый лозунг ещё тупее предыдущего не выдумает!
И эта швабра ( в прямом и переносном смыслах) Татарстана учит тут людей, которые окончили несколько ВУЗов, «жизни» и «грамотности», «исправляя» их «ошибки», при этом, не понимая элементарных выражений и понятий.
Наталья права: с чем вы друг друга «славите»?! Осталось только поздравить с ещё одной «победой»: с неделю назад годовщина поджога ни в чём неповинных людей в Одессе случилась! Ну что?! Тоже — «мира» и «добра»?!
Видитесь и дальше на зов необразованных, безграмотных уборщиц, которая скоро вас-тупых под себя же и подомнёт. Следуйте её «лозунгам»! Как и лже-иностранцам, с определёнными взглядами и вкусами. Он тоже много к чему призывал и склонял вас, нерадивых и легко ведомых.
Пока пропал, но наверняка бы вспомнил про Гитлера, который, как известно, ненавидящий гомосексуализм во всех его проявлениях, сам был латентным гомиком. Недаром в Третьем Рейхе ходила про него тайная, но всем известная присказка-поговорка: «Чёлка и усики, а ниже — чёрные трусики…»
Так что, пересмотрите свои взгляды — кому свистеть да подмахивать и в унисон поддакивать.
Эта уборщица-многостоночница до добра вас тут не доведёт. Вспомните меня, да поздно будет! Я и так уже устала биться о вашу тупую, непрошибаемую стену, предлагая навести порядок на форуме. Не хотите? Ну и чёрт с вами! Живите и общайтесь и дальше здесь в таком же бардаке, какой наверняка у вас и дома тоже с крысами да тараканами. Развели в своей жизни федорино горе, находясь в грязи по соски самые, но при этом расточая неуместные «поздравления» да «пожелания»!
Я тоже почти одна не могу тащить эту ношу неподъёмную.
«Мира» и «добра» вашему болоту вонючему, а я устала, умываю руки, а заодно и душу от вас — бесстыжих. Живите дальше, как хотите!!!
ЛЮБВИ ВАМ, ДОБРА И МИРА В ДУШЕ! )
Мила, поддерживаю, МИРА И ДОБРА, а самое главное им нужно пожелать так нехватающего для них — ЗДОРОВЬЯ духовного и нравственного, а также психического!
Поздравляю всех с Днем Великой Победы! Утром возлагали с мужем цветы на Высоте маршала Конева — море впечатлений…
Спасибо нашим дедам за победу над страшнейшим злом — нацимом!
Елена, Вам — особый РЕСПЕКТ!!! )))
Привет народу Украины!!! )))))))
Мила, спасибо за добрые слова.
Подруга прислала видео из Москвы, шествие Бессмертного полка. Что сказать, на Мемориале маршала Конева не было упоротых, а в Харькове были провокации. Надеюсь, без денежных вливаний они прекратятся.
Ага, председатель горобладминистрации Райнин(?) повторил ваши стоны,пожелав воинам АТО пример брать с ветеранов ВОВ Украины, Бандеры и Шушкевича в том числе, которые,»обладая уникальными качествами чести и достоинства,коих нет у русских», спасли мир от нацизма.Закончил он речь словами Милки:Добра,ЛЮБВИ,МИРНОГО неба над головой.
Ну, все, раз ты отслеживаешь слова «упоротых» бандеровцев, теперь что, слова «любовь», «добро» и «мир» под запретом???
Обалдеть…. какая «железная» логика!!!
Здоровья тебе и добра с любовью и миром в душе!!!…..
А что, любви и мира никто никогда никому не желал ДО Потроха?
Бабос умеет похмеляться???
Мозги включи, упоротая:твоего без вести пропавшего деда, отдавшего жизнь за Россию, сравнивают с бандитами-террористами и атошниками,убивающими детей и стариков Донбасса, возводя их в ранг героев, уговаривают примириться бандеровцам и воевавшим за Россию.
Любви, добра, мирного неба над головой!
Юля, приветствую и поздравляю со всеми весенними праздниками!!!
Ниже пост одной …. форумчанки просто повергает в шок!!!!… читать не буду, ломая голову над нерусской речью…
Хочется в сотый раз пожелать:…здоровья и еще раз здоровья!!!….(мамадорогая)…
Я тоже не поняла, к чему, для чего и для кого тот пост 🙂
Смешно в теме про Кержакова речи украинских чиновников читать 🙂
А в теме про Кержакова читать о возложении цветов не смешно?!
Раз не хочешь ломать голову над нерусской речью, так и быть, переведу:
-Как всегда, 9-е и 8-е мая нас объединяет, и сегодня мы все вместе — ветераны и дети войны другой мировой, ветераны воины ООС и АТО, участники различных боєвых действий, а также все харьковчане объединились, потому что память нас объединяет. Объединяет друг с другом, объединяет поколения с поколением, объединяет Украину со всем миром.
В возложении цветов к монументальной стеле погибшим воинам сегодня приняли участие ветераны Второй мировой войны, участники боевых действий на территории других государств, воины АТО, общественность и руководство области.
Юлия Светличная, глава ХОГА:
Мы можем верить в разных богов, мы можем общаться на разных языках, мы можем мечтать о разном, но объединить нас должна мечта о строительстве нашего общего будущего. Поэтому объединяемся для того, чтобы развиваться и жить в мире.
Ленка Первая была с мужем на Высоте маршала Конева и утверждает, что там «упоротых не было».Как говорит один из героев фильма «Тени исчезают в полдень», «сомневаюсь я,ибо только упоротый(как минимум, я насчитала двоих) может написать о «море впечатлений» от обнимающихся в едином порыве любви друг к другу атошников и ветеранов ВОВ.
АТО-антитеррористическая операция,
ООС-объединённые освободительные силы,
и то и другое-для зачистки мирного населения.
Только бандера может так глумиться над своей историей.
Як завжди, 9-е и 8-ме травня нас об’єднує, і сьогодні ми всі разом — ветерани і діти війни дргуої світової, ветерани воїни ООС і АТО, учасники різних боєвих дій, а також усі харків’яни об’єдналися, тому що пам’ять нас об’єднує. Об’єднує один з одним, об’єднує покоління з поколінням, об’єднує Україну зі всім світом.
В возложении цветов к монументальной стеле погибшим воинам сегодня приняли участие ветераны Второй мировой войны, участники боевых действий на территории других государств, воины АТО, общественность и руководство области.
Юлия Светличная, глава ХОГА:
Ми можемо вірити у різних богів, ми можемо спілкуватися різними мовами, ми можемо мріяти про різне, але об’єднати нас повинна мрія про будівництво нашого спільного майбутнього. Тому єднаймося для того, щоб розвиватися і жити в мирі.
Бiдна жiнок Наталочка-мерзенна пiхота!☹️
Що з тобою трапилося?! Яка муха тебе вкусила?!
псiхiтра тoбi в помошь!
зiж таблетку вiд буйного божевiлля!
Добра i любовi тобi багатолiка тi «наша»
Муха цеце укусила, не иначе 🙂
Вот уж не думала я, что и в прекрасный праздник 9 Мая тут опять начнется тема Бандеры и нациков. С мужем спокойно возложили цветы, провокаций на этом мемориале не было, «активисты» которые к ветеранам не пристают и оскорбляют, отсутствовали (наверное, не захотели так далеко ехать в дождь 🙂 ). Речью Светличной не интересовались, концертом тоже. Не знала, что она так популярна в Санкт-Петербурге у некоторых, конспектировать каждое слово и на форум выкладывать… очень странно 🙂
Правильно, провокаций не было, потому что обнимашки устроили ветеранов и атошников,как вы- поздравлялки.Аккуратненько День победы — в тень, а День согласия и единения бандеровцев и участнико ВОВ- на первый план.и после этого ты ещё свистишь, что не Бандера и не нацик?Почему ж тогда этот диссонанс вижу я, а не ты???
Так что сиди и дальше на ставке СБУ, мути воду в инсте.
А «прокурор»-то уже не в соседней палате….
Їхали козаки Та Галю втратили.з того часу волає вона, щоб її зловили.
пiхотна недоумкуватiсть не вилiковна☹️
Халю, ты хоть грамматически согласовывай слова.
Не бывает бывших наркоманов,когда-то дочь загубила, теперь сын каждый день лицезреет упоротую.
Питерская быдлонацистка- редкая тварь.
Одиночество- сц@ко?
Точно, … хоть и пишет иногда «грамотно»….
Вот из-за таких мразей, как натаха, рассорили ОДИН народ. Они и на форуме продолжают свои провокации — кидаются жидким стулом…
пехотка, а у тебя всегда «запор» заканчивается «диареей»?!
твоя беда в том, что в твоём мозгу сидит 3хдюймовая труба с твоими собственными нечистотами.
извилин только и хватает на то, чтобы пуки издавать.
бррр
Фу йак☹️
сочувствую пехоткиным сочувствующим
Ты чего,Наталья на хохлятский перешла?Ближе он тебе будит?Порой че по русски пишешь и то половина не разбереш,а тут совсем бридятина!Хватит уж тебе злится!Выпить надо,да праздник отмечать.Выходных совсем мало осталось,а ты людей даже не поздравила.Хрен с ними с хохлами,у нас своя здесь жизнь!Поздравляю всех форумчан!
Жизнь у тебя не своя, а Милкина,с хохляцкими слоганами.И в святой Праздник 9 Мая у тебя- первым делом выпить.
А как же ни выпить то в такой день и праздник?Я вчера с ветеранами и выпивала и кашки гречневой на площади с ними из котелка откушала.Их почти и ни осталось никого,как не уважать!Я такая какая есть и не стисняюсь кем работаю и трахатся когда хочу (а хочу я всегда),так и пишу посты в передачам,хоть и ругают меня тут часто,что пишу ни про героев,а про их органы.А как же все мы разные!Будь и ты попроще и к тебе люди повернуться лицом.А то уж давно здесь пирсона нонграна.Пересобачилась со всеми и каждым,на кой?Будь добрее и тебе плюсы полетят,а то уж минусуют и минусуют,даже когда изредка и напишеш правильно,а то нел
Дура! Набитая дура! Ещё и бравирует своей тупостью и примитивизмом!
А мои минусы как раз в плюс идут, сердце радуется, когда вижу, как лихорадочно вы их ставите.Боитесь-значит уважаете.
Ты кашку жрёшь и не ведаешь что творишь, как раз Ленка,Милка и Хала этого добиваются, чтоб ты, дура,про павших забыла и уидела в этом дне только жрачку да водку.
Плюс только в том,что изолировали тебя, в психушке давно харчуешься. А то гости культурной столицы по таким , как ты, судили бы о настоящих русских.
Минус в том, что щедрые санитары бесплатно раздают wifi, чтоб не буйствовала.
Андрошик, умничка, в который раз прикалывается по полной, а эта дурёха всерьез над ней улюлюкает! Убогое…
ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИЦУ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА КАЗАНИ АНДРОМЕДУ (ИЛЬГИЗОВНУ)!!!
НЕ ПОЗВОЛИМ ОСКОРБЛЯТЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ И ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК!!!
Тебя,Юлька, майданутые, видимо, так за@рахали,что крыша съехала безвозвратно.Из-за таких, как ты, у тебя в стране гражданская война.За шмот сала маму продадите, старика затопчете, из Дня Победы фарс учудите.
Вот ты из дня Победы здесь и учудила… ничего святого, просто больной духовно человек…порченая, так в народе говорят….
Пехотко, я майданутых только по телевизору вижу, а вот такую , как ты , …банутую на всю башку, наблюдаю только на этом форуме. В жизни подобного быдла ни разу не встречала, да-с.
ФОРУМЧАНЕ! НА ЭТОМ САЙТЕ МИРНО СОСУЩЕСТВУЮТ РУССКИЕ, ТАТАРЫ, УКРАИНЦЫ ИДР., ПРОЖИВАЮЩИЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ, И ООБЪЕДИНЕННЫХ ЛЮБОВЬЮ К ИСТОРИИ НАШЕЙ РОДИНЫ!
ЛЮДИ ПОЗДРАВИЛИ ДРУГ ДРУГА С НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК, ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКАМ ГЕРОЕВ!!!
ПОЧЕМУ ОНИ ЗА ЭТО ПОДВЕРГАЮТСЯ ОСКОРБЛЕНИЯМ СО СТОРОНЫ «СУДАРЫНИ» — «НАТАЛЬИ»???
ЗАЩИТИМ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И АКЦИИ!!!
НЕТ НАЦИСТАМ!!!
….И ДР. НАЦИОНАЛЬНОСТИ….ОБЪЕДИНЕННЫЕ….
Дамы, была прекрасная инициатива — игнорировать Наталью&Ко. Лично я не собираюсь вестись на ее провокации, пусть хоть речи всех харьковских чиновников тут выложит. Если она психически здорова, то какая же черная душа должна быть, чтобы написать такие гадости Галине в 13:08! Пока не осознает и не извинится, не о чем говорить.
Интересно, что по поводу того поста думают ее защитницы Дафна, Анна и пр. Хотя неинтересно, наверняка очередное бла-бла-бла про то, как «бедняжку» спровоцировали, довели, затравили…
Елена, что думают «дафна» и Анна,… дафна то же самое, что и «Наталья»…, а Анна…. прощения попросит, наверное опять…..
Девушки, приветствую! )))
Опять????? А хде Любовь, Добро, Мир???
Попахивает все больше провокацией враждебных НКО…..
Вчера Сударыня-Наталья пыталась испоганить святой Праздник, сегодня — разжигает войну с Украиной. …((((
Может Путину уже петицию писать???
Что она творит на форуме Федерального канала?
Мы ее ведь уже вычислили….
Ошибаешься. Я вступила в переписку с Н.М. это не Наталья. У Натальи основательное гуманитарное образование. Она любитель поэзии, прекрасно разбирается в литературе. Никаких стихов, ни групп, ни цитат классиков, — отражения не нашло хотя бы сколько-нибудь. Это не Наталья, любители собирать компромат.
Наталья бывший учитель русского и литературы..
Это по ВАШИМ понятиям у нее основательное образование. ..)))
По НАШИМ — она и школьную программу забыла. .)
И общее развитие оставляет желать. .)))).
Так вам Н.М. и признается. ..))) Ага..))) И «Сударыня» — не она…))))
Да и ВАС мы неделю всего читаем, откровенно говоря. ..) А остальных я лично полтора года здесь знаю.. Многие здесь несколько лет.
Но воинствующая нацистка тут ОДНА!!!!
Это вообще неважно, блокировать по IP адресу должны эту нацистку — провокаторшу!!!
Девчата, надо сначала руководству сайта писать. Тут какие-то, контакты есть..
И прошу мне не ТЫкать….)
Какое там основательное! гуманитарное ! образование???
Минимум программы общеобразовательной школы. В подворотне перед маргиналами блистать — сойдёт.
Вы это с издёвкой ляпнули или людей с хорошим образованием никогда не встречали? Смешно.
Девочки, ну просто очередная юмореска «типа от сударки» — она любитель поэзии… знаток литературы…
Валя — клон, который уверяет, что она — не она… прикольно!!!
Никому компромат не нужно собирать, его здесь сама ‘любительница неформальной поэзии’и разжигания национальной розни столько настрочила, что на нескольких хватит…
Ника, эта «Православная инквизиция», расписавшаяся под нацистскими постами может быть подругой, например, появилась слишком вовремя, всех стала поучать и т.п… ..)
Зачем на нее тратить время?????
Девушки, так жить больше нельзя!!!!
«Православной» — ЛЮБВИ И ДОБРА! )
Писать по субординации надо Рук-ву сайта, затем ВГТРК. , в профильнный комитет Госдумы и т.п..
Составляем проект — я завтра к вечеру накидаю.. Здесь публикуем. форумчане пишут присоединюсь — хотя бы около 10 подписей и ссылочку отправляем по инстанциям…)
Добавить еще какие-то ссылки нацистские, недавно что-то было еще, я найду. ..
И после праздников начинаем рассылать. .
В этой теме еще оскорблялась участница Бессмертного полка Казани, татарка Андромеда…
Какие еще мысли..???
Поддерживаем!!!!
Мила, я тоже поддерживаю
Ну вы тоже думайте по тексту…
Завтра составим… Скопируйте, на всякий случай, а то модератор может почистить, а требовать надо блокировки…
поддерживаю!
Нет, милая, ты именно «ты». За твои постоянные интриги и вранье. Раз уж инквизиция, пусть будет инквизиция. Только тогда уже без картинного заламывания рук. Вы собираетесь жаловаться на Наталью. А я вот думаю, что на вас пора жаловаться. Что занимаетесь групповой травлей.Не я первая об этом пишу. Если бы не Наталья, нашлась бы другая. Ведь это для вас развлекуха. На фоне другого самоутверждаться. А Наталья просто умеет вам дать сдачи. За что ее и не взлюбили. Отсюда и желание всеми силами поставить на место. Лицемерки.
ЛЮБВИ ВАМ И ДОБРА!
НАЦИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!
ПОЗОР ПСЕВДОПРАВОСЛАВИЮ!!!!
Наталья…., ты ли чо ли???
Любви и добра!!!
Ника, она старается ‘заболтать’…
Давайте мы сосредоточимся на нацизме.
Поддерживаю!
Стараниями одной особы форум превращается в помойку: ругань и мат, оскорбления постоянное обсуждение анусов, садомазо фантазии о порках, национализм, Бандера…
Человек ни по хорошему не понимает, ни по плохому.
Елена, фантазии дело личное, а разжигание межнациональной розни, оскорбление представителей народностей России и Национальных Праздников — не допускаются Законами Российской Федерации. ..
На этом и сосредоточимся….)
Мила, просто раньше на этом форуме модератор убирала ВСЕ посты, не относящиеся к теме передачи.
Поэтому и удивляет такая «толерантность» — человек свои грязные фантазии описывает, в духе садомазо, сплошная ругань и мат — все ОК! Даже некоторые «православные» поддерживают. Хотя раз дама себя с инквизицией отождествляет… О православии и говорить нечего, а по пыткам у инквизиторов большой опыт, мечты и симпатии некоторых понятны…
Но согласитесь, что если бы разрешали комментарии только по теме, то было бы 20-30 комментариев на тему, а так последнее время по непонятным, магическим причинам, до 300 доходят некоторые темы..)))))
Привет, Мила! Отпуск закончился, теперь озаботился генератором водородной воды )), который Вы мне рекомендовали. У меня вопрос, в разве H2O это не константа? Разве может быть больше H? Ведь это атомы? То есть если H больше 2 атомов, то это будет уже 3 атома? Просто интересно, как это работает..
В прошлом году была тема с 3000 комментов..)))
Но понятие ‘по теме’ или нет — весьма размытое..
Интересно в связи с показанной передачей обсудить аналогичные жизненные ситуации. ..
Мы бы тут с Еленой (первой) может и ‘развернулись’ бы, ..)))… но любопытный нос «Сударыни» пресек это на корню….)))
А вот открытые оскорбления должны удаляться. ИМХО…
Вадим, по поводу генератора в этой теме спамить не буду. . Мы петицию составляем сейчас..
Водород молекулярный Н2 обычный.. Н2 +2ОН =2Н20
Т.е из одной молекулы водорода и 2х Гидроксильных групп образуются 2 молекулы воды.
Причем, внутриклеточно , куда попадают не все антиоксиданты. …
Мила, я признаюсь, я в химии не силен.. Я только касаюсь химии, если мне прямо очень нужно в чем-то разобраться. Ну ладно не будем спамить тут.. ) Я-то уж точно тут наспамил будь здоров..)))))
Вадим, просто почитайте про водородную медицину. Уже очень много клинических испытаний у японцев с 2014 года с потрясающими результатами.. Водород присутствует и в некоторых природных источниках воды, к которым ездят паломники. . Но через 10-15 мин он полностью улетучивается. . Поэтому, генератор — источник, который всегда с вами…)
Универсальный антиоксидант…
Мила, обязательно углублюсь. Я Вам скажу, что витамин D3, Oligomeric proanthocyanidins (OPCs), OptiZinc (Zinc Methionine) тоже рабочие вещи.)
Нет, ну, извините 🙂
Я абсолютно не против личного в темах, сама обсуждаю редко фейковые сюжеты.
Говорю, как тут было раньше.
Я считаю, что все, что ПО ФАКТУ можно обсуждать. А бред он был, есть и будет, и петиции бессильны..((
Против бреда никто не возражает, а оскорбления уже измотали многих. Полтора года назад мы наблюдали, как новые люди вылетали, как пробки, не выдерживая беспрецедентных оскорблений..
Вместо интересных собеседников — доминирование хамства и тупости редкостной…
Я, кстати, очень удивилась, что вы сюда вернулись..)
Аналогичной похабщиной выжали многих…(((
Мила, да Вы шо, меня еще никто ни о куда не выживал ))))) Я скорпион!)))))))))) Я сам кого хочешь выживу! ))))))) Пропал немного потому, что отпуск веселее проходил ))))))))) Кстати, по поводу фруктовых вин, Voruta (литовцы) делает клубничное, арониевое, яблочное, вишневое, сливовое, черносмородиное.. Мои любимые арониевое, черносмородиное и вишневое.)
Профильный Комитет Государственной Думы по делам Национальностей. . В и-нете активная ссылка на их сайт. Туда и слать. ..
Генеральный директор ВГТРК Добродеев О.Б.
vgtrk.com
Девочки, не по теме…
Вчера узнала, что умер Доренко…, очень даль, мне очень он нравился и как неординарный человек и журналист, и как интересный мужчина, потрясающий тембр голоса, ум, смелость, ироничность….
Царствия небесного ему!
Да, жаль, тоже слушал его передачи.. Очень умный, незашоренный человек был.. Такие долго не живут, к сожалению.. За здоровьем надо следить..((
У меня один друг его постоянно слушал. Он плакал, когда узнал.. Хотя плачет «раз в 100 лет»…..
Началось ожидаемое беснование.
ЛЮБВИ ВАМ И ДОБРА!.)
Молитесь за грешников…)))
Фарисейство.
Любви тебе и добра!…. И будь здорова!
НАЦИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!!!!
ПОЗОР ПСЕВДОПРАВОСЛАВИЮ!!!
На ффффффоруме Фффффффффедерального канала.
Хрипловатое, приглушенное шипение свойственно большинству змей Северной Америки – у них имеется подвижный надгортанник, налегающий на голосовую щель. Шипение служит не только для защиты, оно играет немаловажную роль в брачный период. Именно таким образом змеи привлекают внимание своих партнеров.
Оклемалося?
Валя, узнайте,наконец уже, что такое фарисейство и перечитайте свои посты. ОченнО удивитесь.
Псевдо ПРАВОСЛАВИЕ безграмотное..
Мила, а выше — это Ваш пост????
Мой, но немножко не туда прицелилась…)
Валентине псевдо»Православной»…
Девушки, наверное лучше будет сейчас писать очень конкретно, в основном по теме оскорбительного национализма, недопустимого наффоруме Федерального канала. Чтобы не загромождать.
Кто найдет аналогичные оскорбления из др. тем — кидайте сюда.. Их полно, но найти — целая история…)))
… на форуме. …
«Фарисейство – это свойство и вследствие этого поведение личности, при котором наблюдается двойной стандарт в моральной оценке окружающей действительности и поступков других людей».
Дубинноголовая Юля!Ты на словах несёшь Добро,Любовь и Мир, а на деле пишешь доносы.С одной стороны,призываешь к игнору меня- с другой- лезешь со мной выяснять отношения. Двойной стандарт налицо.Ты занимаешься фарисейством. Валентина права.
Тетка, с ДОНОСАМИ ты тут скакала весь год, так что не надо!
Мы все ЧЕСТНО пишем о твоём национализме
( одна Ольга Майер чего стоит),разжигание межнациональной розни (сколько хочешь!), оскорблении Праздника Победы,Бессмертного полка и его участников.
Фарисейство погуглила? Может, и блеснёшь гденить,спасибо нам скажешь.
И лезешь сюда только ты, тебя тут посылают или ОТКРЫТО, или десятками минусов.
Пшла отсюда!
Доносы пишете всегда.,
Придумать кляузу недолго.
Знать,папы с мамой, господа,
Вам передали чувства долга.
Тридцать сребренников дай-
На папу с мамой донесёте,
Любовь,Добро в народ несёте?
А также Мира через край?
И Добродеев свысока
Читает ваши донесенья?
И хохот мучит старика,
Как при большом землетрясенье?
Тридцать сребренников дай-
На папу с мамой донесёте,
Любовь,Добро в народ несёте?
А также Мира через край?
У Милки разудалый вид
В таких сексотовских вопросах,
Ведь шаткий Мир её стоит
Не на земле, а на доносах.
Тридцать сребренников дай-
На папу с мамой донесёте,
Добро и Мир в народ несёте ?
А также Мира через край?
Есть неувязочка одна:
Чтобы донос их прочитали,
Нужно раскрыть им имена
И адреса свои вначале.
Это не входит в их расклад.
Они привыкли гадить ником.
Пускай же захлебнутся криком,
Здесь собирая компромат.
И хто тут ПЕРВАЯ вопила о своей поездке к прокурорам с ‘ доносами’? Расскажи -ка о результатах!
До чего ж тупой бабос…
мало того, что у бабоса словесное недержание оскорбить, упоминая национальности (прошлась по евреям, украинцам, татарам), с жалобами о предынсультном (пытаясь разжалобить видать?!) про жалобы в прокуратуру писала (зафиксировано),
ссылку на чернушный непотребный сайт не удалить.
Не раз намекали и потом уже неоднократно открытым текстом писали: следи за базаром, нет «наш» бабец ничего лучше не придумала, как водрузила себя саму в «сударыню» и остановиться никак не может.
Не прокатит!
Быдлу не дадим оскорблять Людей!
пиши стишата, притворяйся под другими маразматичными именами, прикрывайся «патриотизмом». Только этим, истинное лицо не скроешь.
Если в Питере где будет попахивать сероводородом, буду считать, что где-то в этих местах обитает Наталья — мерзкая пехота из форума. Вот такое о тебе мнение.
прозрачна и предсказуема, как открытая книга.
Умеет все перевернуть
С ног на голову эта «дама»,
Но это не меняет суть,
Ее здесь хамства и обмана.
Про маму с папой вспомнив вдруг,
Овечкой бедной притворяясь,
Забыла, видно, как людей вокруг
Здесь долго оскорбляла, издеваясь…
Объектом оскорблений было все:
Национальность, город, внешность, дети….
И эти гадости читаем мы давно,
Ведь анонимность правит в интернете.
Но есть и здесь свои границы и законы,
Которые переходить нельзя,
И все твои ушата грязи и помои,
Наталья, тебя смоют без следа…
Ай, Ника, молодец!!!+++++
Получи, фашист, гранату!
«А вы,надменные потомки,
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки»
ВкрапАй в бездарный текст своих «стихов».
Нику грязную со свистом
Мою чисто,чисто,чисто.
Будет Ника-особист
Чист,чист,чист,чист.
Похмелись
Ушата-большие уши.
Ушата-ласковое название ухи у рыбаков.
Грязи ушатЫ.
Так меня «смоют без следа»уши и уха????
ЛЮБВИ ВАМ И ДОБРА! )
Девушки, она просто старается ‘заболтать’ тему своих националистических оскорблений…)))
Не стоит очень уж ‘помогать’ ей в этом…)
Игноришь так? Прэлэстно.Или твой коммент мне не «помогает заболтать свои «националистические оскорбления»?
До чего ненавижу бездарные стишки… Кем они ни были бы написаны…
Ника, вы если беретесь за поэзию, хоть ритм соблюдайте, а?
Стихи читать приятно, если они правильно написаны и талантливо. А если не так — то лучше никак, чем плохо.
Извирите, Марго… если не угодила Вам, но это вовсе не стихи…
Стихи мы все знаем и читаем в сборниках прекрасной поэзии, наверное, Натальины рифмы Вам нравятся больше, что ж, иногда бывает и размер соблюден, а читать противно…. главное здесь — суть! Опять же, для меня…, для Вас — не знаю…
Ника, как с языка сняли!
Все правильно написано, спокойно и без оскорблений, Вы точно передали СУТЬ…
Марго, вряд ли Ника претендует на лавры поэтессы. …)))))
Но стихотворная форма иногда позволяет сжато изложить свои мысли. .. ИМХО
Особенно этим славится Татьяна 2 (кажется так)
Коротко все основные темы передачи излагает таким образом, хотя и не всегда идеально. .))))
Очень многим нравится. ….))))
Марго, удивляет, что вы не откомментировали в предыдущей теме:
‘Сегодня Вадик популярный
Наимоднейший п@д@ раст,.
Сегодня любит секс анальный,
А завтра Родину продаст.
Продаст, Иуда, все на свете,
Как и Марго сдается в плен
За перси женские в корсете
Заложит до 7-ми колен’….
Вроде с ритмом не так плохо, но далее не продолжаю. …(((((
Сударыня стих написала
О том, что Вадик «шлюха с вокзала».
Эх, если б Сударыня знала
Сколько в своей жизни она потеряла..)))))))))))))))))))
How did we ever get this far…..))))))
https://www.youtube.com/watch?v=TxfJv9PdpyE
Вадим, слава Богу, «Сударыня» обещала нас покинуть. …))) Будем надеяться, — навсегда..)))
Так что, можете ей уже больше музыкальные клипы не адресовать.. )))
Соответственно, можно было бы и вернуться к первоначальному НИКу…)…раз исчезла ваша собеседница — любительница ‘порочных мальчиков’…)))
Нет уж, Мила, Вы меня пуганули Анубисом,- что кара Богов меня ждет)) К предыдущему нику возвращаться не будем ))))))) Лучше..))))))
https://www.youtube.com/watch?v=vwe3CzWZ4Bg
Я имела в виду Вадима…)))
Кстати Анубис, возможно, сыграл свою роль, хоть и выбрали вы его, как оказалось интуитивно. .).. «Сударыня», похоже отправилась в преисподнюю..)))
До сих пор есть сообщества, поклоняющиеся этому Богу… В Египте вообще много странного, притягивающего все новые экспедиции исследователей. . Даже наш Мулдашев был многократно. .
Так что Анубис свою роль уже сыграл…))))
Мила, А мне Вадик понравился. ) Немного иронично. ) Мила, ну они же из гробниц выходят «покойниками» из-за древних бактерий, вроде, а не из-за кары. Я не суеверный, но и «играть с огнем» долго не люблю. Я думаю, как бы там ни было, Анубис меня простит, ведь было весело, а это «all life is about» ))))))
Ну, энто как с генератором. ..)))
Инфа 50-летней давности…)))
Не будем спамить тему..))))
Готовьте предложения по петиции..)))
Марго, очень надеюсь, что вы испытали катарсис и , изнемогая от восторга, плюсанули:
Нику грязную со свистом
Мою чисто,чисто,чисто.
Будет Ника-особист
Чист,чист,чист,чист.
Классный размер! Содержание тоже рулит 🙂
Енто чо было: гекзаметр, ямб или хорей? 🙂
Ника, Вам ➕ ➕ ➕ ➕ ➕ ➕ ➕
Мне больше делать нечего,кроме как на вас, дур, время тратить.Вы и так у Системы технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий (или просто СОРМ) на карандаше.В российском СОРМ спецслужба самостоятельно определяет пользователя, которого необходимо поставить на контроль, и самостоятельно это осуществляет.
Да ты шо???
Самой-то не смешно? Убогое…
Пока поверхностно глянула, что может быть за :’Действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, языка, отношения к РЕЛИГИИ, и какой либо социальной группе с использованием сети И-нет’…. ст.282 УК РФ, часть 1 — до 6 лет…
В год порядка 1000 дел заканчиваются реальным наказанием…
А тут вообще группа лиц осуществляет спланированную акцию…(((
А я и думаю, куда все клоны схлынули???))))
Девушки, ищем подпадающие под это цитаты…
Оскорбления хохлов, евреев, татар, ‘поломоек’ и т.п….
Цитаты надо искать от всех НИКов данной особы..
Вот еще юридическая справка:
Информация, размещенная на официальном сайте, имеющем статус СМИ, (наверняка этот имеет) будет являться ‘публичным оскорблением’.
Статья за оскорбление личности в соцсетях предусмотрена такая же, как за обычное…
В общем, любой оскорбленный может подать заявление в СК и Прокуратуру…
Андромеда, Галина (СПб), Елена (первая) и др.. — она у вас под ‘колпаком’ …..))) Все док-ва — в архиве ПЭ..
Мы же сосредоточимся пока на необходимости БЛОКИРОВКИ пользователей, систематически оскорбляющих по национальной принадлежности..
Мила, о каких поисках речь? Вот как найти тему, где данная особа не оскорбила людей по всем вышеперечисленным???
Думаю, что меня, как гражданку другой страны, можно оскорблять безнаказанно, а вот Галина, Юлия, Андромеда и пр. вполне могут кинуть ссылки на посты жительницы культурной столицы 🙂
Нужны просто несколько конкретных ссылок именно с оскорблениями национальной принадлежности.
По Андромеде самые лучшие, но она-то на работе, поди сейчас. . Еще было по евреям и украинцам. .
И народ еще празднует, с темы уже ушли все..
Завтра надо сделать… Я позже накидаю черновичок текста и туда добавим конкретные ссылки. ..
Подписи и ‘присоединения’ никакие не нужны. ..
Т.е. я имела в виду, что для возбуждения уголовного дела или жалобы в Роспотребнадзор желательно личное заявление потерпевшего. .
А по нарушениям в СМИ может обращаться возмущенная общественность.
Мы — то заблокировать ее пока хотим, а не посадить. ..)
Но если кто оскорблен прям до глубины души, могут жаловаться дальше индивидуально или с нашей помощью. ..)))
Мила, я здесь полностью согласен, упрекать человека грамматикой, а тем более работой, тем более физической, трудной — это мерзко! Это совершенно не показатель интелекта. Показатель интелекта вести себя адекватно и достойно в любой ситуации с любыми людьми!
Я представляю, Мила, что терпят от тебя работницы коллектива, где ты работаешь! Интриги — это всё ТвоЁ! контаргументы на тебя можно всегда будет найти. Ты двигатель всех интриг. Думаю, что если вы всерьез что-то предпримите, то выскажутся многие, кто читает, но не отписывается, ибо в эту помойку никто специально не полезет. Времени жалко.
Валя, в помойке-то общаться как раз и не желаем. Не ‘полезем’, а постараемся почистить.
Говорите,многие выскажутся? Посмотрите на оценки комментариев и уйметесь на самом деле-то.
Мила, постараюсь найти оскорбления Майер.Остальной навоз- на каждой ветке обильно расбросан.
РаЗбросан навоЗЗЗ.
Воть…
‘Выскажутся многие’?????
Да я сама чуть ли не каждый день высказываюсь : Давайте это остановим!
Клоны всякие возникают типа «Сударыни» с высказываниями’…
Недели 2 уже читаем ‘высказывания’ невесть откуда возникшей псевдо»Православной»…
В стране демократия — каждый может ‘высказаться’…)))
Еще момент: к оскорблению по принадлежности к социальной группе можно отнести оскорбление сексуальных меньшинств…
С какой стати можно было безнаказанно поливать грязью официального представителя РФ на Евровидении???
Ну, это мы пока опустим… Надеюсь, что сам Сергей пока не прочел или его фанаты.
Тоже могли бы обратиться в компетеные органы…
Мила, это отсталые от жизни люди, и, поверьте, их много.., везде.. Просто, где-то им затыкают рот, а где-то они качают права.. По факту все электорат, так что замкнутый круг..
Вадим, Никита Михалков начал однажды судитьсяс каждым, кто негативно о нем отзывался, и результат был достигнут…)))
Законы ужесточаются.
Тему меньшинств мы трогать не будем. Но, по факту, инициатива каких-нибудь фанатов в этом направлении может оказаться успешной…
Про Михалкова, кстати, что-то в этом духе писали раньше. ..
Вы лучше дайте дельный совет, как быстрее заблокировать этих клонов…))) Какие свежие мысли???
Юля, зато какой ритм! А содержание, рифма! 🙂
Мила, а разве они уже не сдались частично? Вообще, кто вовремя не уходит, того убрать очень трудно.. Вы понимаете, что я имею в виду? 😉
https://www.youtube.com/watch?v=n2s2tPORlW4
‘Пленных не берем’…)))
‘Сдались частично’ — это мы уже проходили, потом все по новой начиналось..
Лично меня жизнь приучила все дела доводить до конца.
В свой адрес, кстати, я вообще ничего не воспринимаю, это правда. И ‘приложить’ умею без всяких матерных слов, просто давно этим не пользуюсь.
Но мне очень жалко стало Андромеду, в особенности. . Она сама никогда не отобъется от этого чудовища…
Галина с Еленой — крепкие орешки.
Эту помойку то кто-то должен закрыть..Хотя бы попытаться. .. Мы крайние оказались. .
Давайте предложения!!!!! )))))
Шапку с адресатами рассылки предлагаю следующую:
— Руководству портала praymoi-efir.ru (в контактах есть связь для замечаний, поедложений по работе сайта)
— Генеральному директору ВГТРК Добродееву О.Б.
— в Комитет Госдумы по делам Национальностей
— в Центр Безопасного и-нета в России, https://www.saferu net.org, горячая линия.
Раз в неделю можно посылать по следующему адресу до достижения результата….)
Ну а по тексту предлагаю следующую канву:
Благодарим ВГТРК за прекраснное освещение по всем каналам Праздника Победы 9 мая и марша Бессмертный полк….
К сожалению Праздник был омрачен усилением националистических оскорблений ….в т.ч…в адрес участников марша… на сайте ‘Прямого эфира’…
Возмущены… просим усилить контроль за своевременной блокировкой провокаторов национальной розни….
Несколько цитат из др тем…
Я завтра примерно составлю, давайте еще мысли..)
Уже вторые сутки строчит Милка доносы.
Кнут получает первым доносчик по запросам.
Теперь нА дом уколы приходит делать врач.
За что?За то, что Милка классический стукач.
На Штирлица похожей мечтает Милка быть,
Ей нужно все увидеть, запомнить, доложить.
А то, что донос ложный,ей это нипочём.
Нелегкая работа быть бабой- стукачом.
Ничего «ложного», только факты…
К РФ Статья 306. Заведомо ложный донос
1. Заведомо ложный донос о совершении преступления —
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, —
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, —
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
(часть третья введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
Цитаты пользователя из архива ПЭ — ложный донос????? ))))))))
ЛЮБВИ ВАМ И ДОБРА! )
И мозгов немножко. …))))))
Мила, вчера читала предновогоднюю тему с похабными стишатами…., кстати, там упоминалось, что Малахов забанил Натальины стихи в Стархите и Днях.ру…
Ника, вы погрузились в ‘преисподнюю’???)))))
Там модератор чистила потом.
Кличку собачки не видели? )
Видимо, энтот форум порнографический Малахов пока не читал ни разу. …)))))
……ПОКА…..
Пёху все три приведённые ею статьи светят.
Но главное наказание для неё- полное одиночество по жизни и беспросветная злоба. Всегда и во всём.
По мощам и елей.
Тут глазам их открылось не то тридцать, не то сорок ветряных мельниц, стоявших среди поля, и как скоро увидела их Донна Кихотша-МИЛКА, то обратилась к свой оруженосице НИКЕ с таковыми словами :
— Судьба руководит нами как нельзя лучше. Посмотри, товарка моя Санчо донна НИКА: вон там виднеются тридцать, если не больше, чудовищных великанов, — я намерена вступить с ними в бой и перебить их всех до единого. Это война справедливая: стереть дурное семя с лица форума ПЭ — значит верой и правдой послужить богу.
— Где вы видите великанов, бредовая наша донна МИЛКА? — озадачилась Санчо НИКА. (Здесь, справедливости ради, следует упомянуть, что ей тоже кое-что частенько мерещилось в последнее время).
— Да вон они, с громадными руками, — отвечала ей товарка по паранойе. — У некоторых из них длина рук достигает почти двух миль.
— Помилуйте, донна МИЛКА, — возразила Санчо, — а что если то, что там виднеется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы? То же, что мы принимаем за их руки, — это крылья: они кружатся от ветра и приводят в движение мельничные жернова.
— Сейчас видно неопытную искательницу геморроя на свою грузную ожиревшую пятую точку, — заметила Донна Кихотша-МИЛКА, — это великаны. И если ты боишься, то отъезжай в сторону и помолись, а я тем временем вступлю с ними в жестокий и неравный бой.
ЛЮБВИ ВАМ И ДОБРА! )
Наталья…., ой,… «дафна», которая «нз» и в сторонке нервно курит, положение аховое, тяжелая артиллерия в ход пошла…
Все забывала спросить, вы тоже учительница бывшая и любительница переделанных цитат про «жирную пятую точку и «Милку»…где-то я все то же самое слышала, не припомните???
И еще, недавно читая ваши посты о православии, припомнилось ваше:»слава аллаху!»… не надо так палиться глупо.
Ника, ради Бога, не тратим время попусту, ищем какие-то цитаты и бросаем сюда пока…)))))
Я к вечеру сяду, текст составлю.. Правим и сегодня же отправляем…
Предлагаю это сделать Юле, она сильнее всех в IT пространстве ориентируется….)
Как бросать? Ссылки по времени и дате???….
Юля, подскажите….
Мила, у меня когда-то в вайбере получались скриншоты…, сейчас сюда не получаются…
У меня тоже не получается. ..(((
Просто текст пока с временем, датой, темой..
Я в цейтноте пока….
Дафна,да вы талантливый человек!Мне всё равно крышка,дык хоть напоследок попрошу у Вас прощенья, ибо талант всегда прав.
Эта сцена из спектакля «В джазе только ….я» с прощением уже была, чей выход сейчас..????
Прощальные слова????
Может быть Наталья покинет нас добровольно???
Написать то Добродееву с Малаховым мы можем в любой момент, если вернется. ..
Наталья, со ВСЕМИ прощаетесь????? ))))))
Мила, когда мы в теме Джи удар держали, Наталья тогда в других темах не писала (!!??), а вот «дафНЮША» регулярно во всех…. кроме Джи!!!!! Не о чем не говорит..???
Ника, что сейчас это клон, я уверена на 99.999%.
Но прямых доказательств не предъявишь…
Тогда мог быть даже другой вполне реальный человек…
Я же уже признавалсь, что все подозрительные ники здесь мои. Запомните эту инфу, бабы, и не тужьте больше свои никчемные мозги.
Дафне на пост в 14:14.
Помалкивай, хабалка убогая, может, за умную сойдешь 🙂
Дык сухари сушу,носовые платки не забыть бы.20 лет без переписки- нихухры-мухры.
Наталья, мы все тут порой отрываемся. Всё нормально было и тогда и теперь.
Отрывайтесь на своих кухоньках, если еще остался кто-то рядышком, ок?
А не на форуме , оскорбляя национальности, детей, семьи, сочиняя похабные истории про форумчан и их личную жизнь.
Вы в погребе выросли? Ваш пьяный дед бабку пришиб?
Подобные истории с Леной,Галей, Никой, Аней , Ольгой, Андро и многими другими.
Фигасе, отрываемся! Всё норм вообще??
Юля, а не могут Наталья-Сударыня-Дафна быть местными оплачиваемыми троллями для раскрутки сайта???? Стоит ли с ними беседы беседовать????….)))))
Если их не забанят, можно в соцсети Малахову послать похабщину лично на него… Кому попадется — кидайте. ..
Мила, очень похоже на то.
Были такие мысли.
Мила, я же Вам раньше писала про форумчанку с ником «тоже киевлянка», она говорила, что тролли — это редакторы ПЭ.
Может, Наталья и появилась здесь, как обыватель, переживая за Джи… а теперь на жалованье 🙂 какая-никакая прибавка к пенсии 🙂
Предлагаю:
1. инорить 100%. Любовью и Добром в крайнем случае. ..
2. Обращение послать по адресам, тролли должны соблюдать законы РФ
3.Найти похабные оскорбления Малахова — и ему в личку через соцсети
Пусть увольнчют похабных троллей и нанимают нормальных….)))))
Это же личная инициатива владельца сайта.
Малахов его знать не знает, но по шапке дать может. ..
Дочка — самое перспективное направление ИМХО.
Крышу у нее снесло именно после упоминания о ней….Фамилию я узнаю практически наверняка. .
Но это чуть позже…)))
А пока ничего не читаем и ищем цитаты..)))
Елена, редакторы — вряд-ли. У них своя работа.
Для этого нанимают спец. людей. ..
Тут по ‘накалу страсти’ чую любительницу поругаться обыкновенную, все же….))))
Но отвечать излишне, мы всю тему заспамим…)
И еще, Малахову и к° важно иметь сотни тысяч и миллионы ПРОСМОТРОВ самой передачи.
А 30 или 300 комментов на сайте — не важно..
Это нужно только владельцу, т к . рекламы больше и она дороже… Обычно это совершенно посторонние люди…
Дафна, странно Вы рассуждаете))) но вставляете бабкинатахи любимое — про её наболевшее, а именно про 5ю точку☹️
Это стиль такой у клонов бабки? или это объединение любителей 5й точки? или же это идея одной сумасшедшей бабки натахи под разными именами писать, то про свои «вставить 5 копеек», то опять про ту самую опытную, грязную, ожиревшую 5ю точку?
Можете не отвечать.
Ответ очевиден: На форуме уже больше года наяривает 5я точка донны пехотки, а не наталья или как там ея величать?!))))
т.е. лицо ваша подзащитная прячет, как страус в песок)))))
а вонь на форуме распространяет её 5я точка.
МЫ вас поняли.
Мила, все правильно. Если опять все поймем, простим и забудем (как в случае с дочерью Натальи, собирались ей послать мамины цитаты), эта грязь хлынет снова и более мощным потоком. Тогда дама на время присмирела, теперь клоны объявились с «миссией» — навести порядок на форуме, в РФ и душах форумчан 🙂 И главное, человек
не устает ругаться со всем форумом! Такую бы энергию да на благое дело 🙂
С дочкой мысль вполне рабочая.. Тем более, вдруг правда, что она где-то на ТВ??? Такая мамаша ей всю карьеру может испортить. .. Жалко человека…
Про одного Малахова сколько гадостей накатала..
Можно темы прошлого года распределить и найти ту кличку. .. Потом — дело техники. ..
Мила, кличку искать не надо…….
Попалась уже? Публикуйте. …)
Заодно фамилию подтвердим…)
Викенж Эмпая Ареф Диа
Это все слова? Полная цитата есть?
Надо искать…
Вернувшись в Москву постараюсь сразу узнать подробнее. …))))
Я смотрю, ниже «умирающий лебедь» ожил и уже не прощается? 🙂
Так и думала, что это «остаточне прощавай» питерской поклонницы Бандеры и Петюльки 🙂
Юля недавно писала, что кличка собаки Айка.
Ну где же мне до тебя»Ты же здесь совместно с товарками открыла на форуме филиал «Миротворца», ищешь и публикуешь мои личные данные, к собачке моей прикопались.Она -то НЕВИНОВАТАЯ.Всё в традиции Бандеры, который первым завёл службу по выявлению врагов.
Юля, а откуда вы знаете домашнюю кличку?
Оно само калякало в теме цымбы,где про генетический материал Николая Второго свистело ( уникальная вещь, надо отметить, а наши- то захоронение Александра Третьего хотели вскрывать, ибо другого выхода НЕТ)
И евреев там прикладывала так, шомамодорогая. Ноябрь- декабрь 2017.
Ну,’ оно само накалякало’ и полную кличку. .
.Т.е. информация — открытая…)))
Человек сам себя прорекламировал.. Надо уважить, поинтересоваться что там и как….)
Со всем форумом! Как видите:не совсем форумом.Вы чем лучше? Она честнее вас, потому что не лазит по соцсетям,не лазит по чужим страницам и не собирает компромат. Вы, Елена, либо не разобрались в ситуации, либо такая же гнилая, как Людмила(Мила) с компанией. Как только кто-нибудь начинает высказываться в пользу Натальи, начинаются крики, что это очередной Натальин клон. Здорово Людмила всех вас построила. Ведь очевидно, что Сударыня, Наталья, Дафна, Анна и пр.- это разные люди. Далеко не все на вашей стороне. Да если хоть весь форум- кто сказал, что правда на стороне большинства? Вся возня у нее за спиной от злости, что не могут справиться. Как змеиный клубок… Впрочем, вам некогда. Людмила дала разнарядку искать компромат. Работайте.
А заодно и на меня компроматик поищите. Как сначала я вас очень поддерживала и с Натальей у меня неоднократно были нелицеприятные диалоги. Пока не заметила, что кратковременное недовольство переросло в откровенную травлю. Я написала, что не надо отвечать злостью на злость. Ведь вас много, а она одна. И еще пришла к выводу, что с ней приятно общаться, когда есть взаимоуважение. Все достижимо. Можно прийти к консенсусу и сейчас. Было хорошее предложение: полный игнор. Мы вас, вы нас. Не воевать, а не замечать. При этом никак не задевая поотивоположную сторону. Так как?
Работай…
Объясняю в последний раз.
Если Вы не клон, а подруга или просто сочувствующая «поэтессе», попытайтесь эти истины донести прежде всего ДО НЕЕ, андерстенд??? Я ее посты, где она бред очередной пишет про мое восхищение Бандерой, игнорирую, но дама никак не унимается.
С октября 2017 г. она оскорбляет здесь людей, доколе будет продолжаться??? По-хорошему не получается, у меня уже было 3 попытки, Галина и др. тоже сочувствовали даме в прединсультном, получили только новую порцию оскорблений в свой адрес… не все здесь дафны-анны, чтобы за оскорбления благодарить. И для интересующихся садомазо тематикой есть специальные сайты, при чем тут форум ПЭ?
Честнее нас только потому, что не лазит по соцсетям??? А то, что матом крыла, постоянно бл@дями называла, какую мерзость писала Гале и Лене, той же дафне и другим. Кстати, из тех же соцсетей ссылку давала на порносайт, где якобы Галя работает? Честнее нас, Валя, вы в своём уме??????
Вам не стыдно?
Ишь ты, одна она осталась, пожалейте её теперь.
Пока мы все не дали быдлу отпор, она всесело улюлюкала в СТАЕ. Сейчас в одиночестве отбрёхивается.Так что не надо, псевдушка.
Вижу,про фарисеев так и не случилось погуглить.
Юля, доброго вечера!
Хотела спросить про Маер, Вы не помните приблизительно когда это было, октябрь, ноябрь, наверное, надо поискать….может быть начало декабря???
Ника,да,конец того года. Все Ольгу поддерживали, как могли.
Поищу, домой доеду…
Про Виталину тема была или рядом. .
Девушки, в принципе можно и нецензурщину кидать для характеристики морального облика и пост с ссылкой на порносайт…
Юля, вы только копируйте периодически. .
Ой,боюсь,боюсь,боюсь!
Пойду сразу утоплюсь.
Ленку поматросил
Муж и снова бросил.
Ай, бросай доце моей
Ты цитатки строго.
От таких, как ты,@дей
У неё изжога.
New: городской маргинальный фольклор от спившихся ‘интеллектуалок’
Юлия, по большому счету дочка нам не нужна..
Но внимание от нее она пытается отвести…
А может и пригодится. ..)
Знакомые истории дочка сразу опознает…))))
Может как-то отберет гаджеты у полоумной???)))
Сказала она, не просыхающая никогда, человеку, который вообще не пьёт.То есть, совсем.
ЛЮБВИ ВАМ И ДОБРА! )
«За меня невесты
Отстрадают честно.
За меня ребята
Отдадут долги.
За меня другие
Отпоют все песни,
И, быть может, выпьют
За меня враги.»
Поминая Милку,
Мне нальют чифирку,
Выпив,пожелаю ей Мира и Добра,
Как она писала
На меня доносы,
Собирая компру
С ночи до утра!
Чок-чок-стукачочек,
Много тёмных ночек
За крапаньм кляуз проведёшь,
Как тебя посадят,
Как тебя там встретят,
Ты такие песни запоёшь!
С зоны еще репертуарчик???))))
ЛЮБВИ ВАМ И ДОБРА!)
Милка,этот РЕПЕРТУАРЧИК, как ты выражаешься,-стихотворение В.С.Высоцкого(видишь,чай, кавычки),написанное в 1963 году, и вариация на тему.Посвящено оно реабилитированным ,бывшим » врагам народа»,которые оказались в лагерях благодаря доносам таких, как ты и твоя шайка.
ЛЮБВИ ВАМ И ДОБРА! )
Сегодня для тонких ценителей изысканной поэзии с безупречной рифмой… просто праздник!!!!
Ника, +100500!!! 🙂
Да тут и проза была, «талантливейшего знатока», с углубленными знаниями в русской поэзии 🙂
Любимая тема алкашей: я вааапще не пью!
Она как-то писала( найду!!!), что постоянно курит. И буквально темы через две- ‘я ваапще не курю!’
От слова ‘совсем’,Пёх?
Ох,найду!
Любимая тема алкашей-обвинять людей в пьянстве.
Юлечка, нам это все очень интересно???))))
Давайте, каждый найдет по 2 цитаты строго по национализму…
Дафне на пост в 14:14.
Помалкивай, хабалка убогая, может, за умную сойдешь
———————-
Ленка, как-то резко стильчик меняешь,в Нику-Халу на ходу переобуваешься.До сих пор была свиным студнем, а ныне прям шашлык вырви глаз.
Ох, тяжело, наверное, жить с фанпрной головой…. это Лена спеыиально прикольнулась вашими «эпитптами» ответила… не узнала свой «стильчик» со ли????
..фанерной, эпитетами, специально…. щас визг » ни хря, ни хрю»…. начнется
ЛЮБВИ ВАМ И ДОБРА!)
Девушки, начинаю выкладывать примерный текст. Получится 3 части…Правьте….)
Наталья:
27.11.2017 в 21:36
Оценка комментария: Thumb up Thumb down +27
Сегодня и Цымбалюк, и Малахов как-то сильно пожухли.Виталинка понятно почему:кончился её Марлезонский балет с выходом.А Малахов,всегда бегущий впереди паровоза, видно, пронюхал, что дело пахнет керосином и хохлошайке светит тюрьма, а его могут привлечь не только за скрытые камеры и жучки, но и за разжигание национальной розни.
Забавно, Наталья пишет про разжигание 🙂
Смешно, а какой-нибудь оскорбительгый ее пост в адрес кого-то из форумчан?
Мила, да искать долго не надо, из последнего Андромеде:»заслуженная поломойка Татарстана»…это 9 мая в ответ на поздравления….(9.25)
Причем Андромеда очень миролюбиво поздравила ее с праздником и началось…
Наталья:
16.12.2017 в 22:22
Оценка комментария: Thumb up Thumb down 0
Юля из Москвы в борделе
Натрудилась за неделю,
Просит афиыраф пЕсать,
Чтоб исчо по@лядовать.
Из раннего 🙂
Елена, тут из «раннего» половину форума надо переписать…
Как поклонницы «творчества» сейчас, наверное, наслаждаются….
Просто оскорбления — это админ. правонарушение,а по национальной принадлежности — уголовное… Ищем националистические. ..
Еще были оскорбления личной жизни А.Малахова и про его семью гадости. .. Надо бы поискать. ..
Пользователи форума ‘Прямой эфир’ выражают большую благодарность коллективу ВГТРК и ведущему Андрею Малахову за прекрасное освещение празднования Дня Победы 9 Мая и акции Бессмертный полк.
Форумчане из различных городов России и зарубежья, среди которых русские, украинцы, евреи, татары и др. национальности России, также тепло поздравили друг друга с этим Великим Праздником!
Ника, вы могли бы перечислить НИКи всех поздравлявших…)
Мила, конечно, сейчас посмотрю и напишу.
Постоянные участницы форума 8 и 9 мая поздравили друг друга и всех форумчан с праздником Победы:
Lenok 07.05 в 19.54
Ника 08.05 в 09.39
Галина(сПб) 08.05 в 10.13
Фемида 08.05 в 10.18
Мила(Москва) 08.05 в 10.30
Андромеда 09.05 в 07.46
Galenduha 08.05 в12.42
Юлия (Москва) 09.05 в 19.28
Елена(первая) 09.05 в 12.33
И некоторые не один раз и получили от Натальи оскорбительные сравнения с украинскими националистами….
«Пользователи форума ‘Прямой эфир’ выражают большую благодарность коллективу ВГТРК и ведущему Андрею Малахову за прекрасное освещение празднования Дня Победы 9 Мая и акции Бессмертный полк.» —
ЛЕСТЬ И ЛУКАВСТВО ОПАСНЕЕ ПЬЯНСТВА.
ЛЕСТЬ БЫВАЕТ У ЛЮДЕЙ, В СЕРДЦАХ КОТОРЫХ ЖИВЕТ ДИАВОЛ.
Здорово ты переобулась. Играешь на Публику. Как произвести впечатление на НАталью Назарову??? КАК???
Валя, ты совсем ку-ку…
Не смотрела по России трансляцию «Бессмертного полка»??? Нет??? Тогда лучше жевать…, чем говорить ахинею….беснующаяся наша.
Иди, помолись и успагойся…
С ума сошла псевдо»Православная»???
Может это вражеские НКО Православие позорят таким образом?????
Идиотка, за границей люди со слезами Бессмертгый полк смотрели!!!!!
Что за провокации на сайте Федерального канала????
Я и сейчас смотрю повтор праздновагия по России 24.. И с большим удовольствием!!!
Окопались тут, блин, провокаторши гнилые…
….празднования…
Девушки, да не смешите, каким боком эта Валентина к православию???
Где вы видели истинно верующих, не знающих церковные праздники, ругающихся в дни Великого поста, отождествляющих себя с католической инквизицией, поддерживающих матерящихся злобных баб???
Елена, в этом-то и дело. НИК очень провокационный. Смахивает на спланированную акцию по дискредитации Православия.
Вот гадости какие тут спелись гнилые…(((
2. К сожалению, радостный праздник был омрачен оскорбительными националистическими выпадами в адрес поздравляющих со стороны пользователей «Наталья» и «Сударыня».
Сам праздник назывался ‘пиром во время чумы’ Наталья 09.05.09:25
Особое возмущение вызвали оскорбления участницы акции Бессмертный полк Татарстана татарки Андромеды (Ильгизовны)
‘Заслуженная поломойка Татарстана’..»Наталья» 09.05.19 09:05,
‘Увидела в этом только водку и жрачку’ «Наталья» 09.05.13:02 и др многочисленные высказывания в оскорбительном контексте…
Оскорблялась также семья Елены (первой), проживающая в Харькове, возложившая цветы к высоте маршала Конева…
«Сударыня» 08.05.19 ‘Хала, ты тут как главная бандерша…’
Сам праздник назывался ‘пиром во время чумы’ Нат……..
И во многих комментариях проводилась идея аморальности его празднования, что иначе, как провокацией воспринять было невозможно. .
Особое…….
Указанные пользователи «Сударыня»,и «Наталья» и в других темах постоянно подвергают других форумчан оскорблениям по национальной принадлежности, что подпадает под действие статьи 282УК РФ ч.1.
Тут примеры еще…
Тема : На Украине новый слуга народа
«Наталья» 22.04 20:04 …’Только хохлуха может быть такой наглой и глупой. Я в комментариях никогда к тебе не обращаюсь, брезгую, а ты каждый раз лезешь’….
Мила, да много было оскорблений лично меня по поводу хохлостана 🙂 особенно в темах про Джи. Я на них ссылку не давала, т.к. не гражданка РФ. Но она Юлию и Галину тоже в хохлухи записала почему-то, а про Галю еще и на непотребный сайт ссылку дала. Надо эти высказывания найти…
Какая разница. Это оскорбление по национальной принадлежности. Возбуждение вражды между народами. .
Милый дедушка!
А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку.
Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».
Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку… Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес:
На деревню дедушке.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу».
В связи с этими фактами просим заблокировать пользователей «Наталья» и «Сударыня», а также усилить контроль за националистическими высказываниями впредь, т.к. передачи А.Малахова и их обсуждение должны объединять людей, а не сеять вражду..
ОБЕЗЬЯНА
Как хочешь ты трудись;
Но приобресть не льстись
Ни благодарности, ни; славы,
Коль нет в твоих трудах ни пользы, ни забавы.
Крестьянин на заре с сохой
Над полосой своей трудился;
Трудился так крестьянин мой,
Что градом пот с него катился;
Мужик работник был прямой.
Зато, кто мимо ни проходит,
От всех ему: спасибо, исполать!
Мартышку-МИЛКУ это в зависть вводит.
Хвалы приманчивы, — как их не пожелать!
Мартышка вздумала трудиться:
Нашла чурбан, и ну над ним возиться!
Хлопот
у нашей МИЛКИ полон рот:
Чурбан она то понесет,
То так, то сяк его обхватит,
То поволочет, то покатит;
Рекой с бедняжки льется пот;
И, наконец, она, пыхтя, насилу дышит:
Но от Малахова похвал себе не слышит.
И не диковинка, мой свет!
Трудишься много ты, да пользы в этом нет.
ЛЮБВИ ВАМ И ДОБРА! )
«А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Там времени не тратить попустому,
Где надо власть употребить»!
Про кота, который слушает, да ест…
И тут обгадила ты дедушку Крылова,
С ошибкой начертав простое слово.
Не тужься боле,Ника, ПО-ПУСТОМУ:
От твоего стихосложения ОСКОМА.
Девушки, все поищем националистические высказывания из прошлых тем. В ближайшие пару дней надо бы это сделать….)
Юлия, просьба, объедините, пжл, шапку с рассылкой и фрагменты текста. Может быть скопировать сегодня? Как бы завтра модератор не удалила. ..) Если тему закроет, вернемся в предыдущую…)
Будет сделано!!!
Надо, видимо, посыпать часть с обсуждением 9 мая, а то заспамили очень. ..)))
Пост Натальи от 07.11.18 19.48
«Есть очень умная, образованная, талантливая нация- евреи. Они сами дали название саоим соотечественникам, подлым, глупым и жадным, тем, которые позорят их нацию — нарекли их жидами.
Ранифированная жидовка — Ольга Мейер, Вы, значится».
Ольга Майер: а вот за это можно ответить.
Там диалог долгий…
Наталья: 08.11.18 в 01.15
» Таоего общества точно отброс. С жидовней никто не связывается, и как евреи их презирают».
Пост Виктории от 08.11.18 в 09.36
…. А вот за обзывание людей по национальности надо блокировать на форуме».
Жиды — это не национальность. Да будет тебе известно.
Да что ты???
Однако русских или татар так не называют, наимудрейшая наша… слишком много страсти, Валя, слишком….
Кстати, как тебе рифмы ниже???
Не забудь плюсануть и прослезиться от восторга….
Изучи тему. А то прокол за проколом.
Ты такая же православная На…, тьфу, Валя, как я балерина Большого театра… все православные утром и вечером моляться, по сайтам не злословят, а в праздник на службе в храме, да и по-другому выражаются и мыслят….
Ника, этот форум сейчас рухнет. Вы видите, что происходит?????
А кто-то на счет Дафны сомневался…
Вон чо дплает полоумная, теперь уж ясно, чего добивается, на каждую… найдется…
Ничего ей это не даст я все переписала.
Хоть и с извилиной, но все равно курица, сейчас под эмоции себя раскрыла…и добивает своими руками.
Тексты скопируйте наши и перейдем в другую тему.
Ощибаетесь, она тексты наши добивает. .
Которые писала я, у меня есть, остальные ссылки найдем….
Дафна точно тролль профессиональный. ..
Мила, в чем проблема, все скопировано 🙂
Ну, пусть бабанька развлечется… напоследок 🙂
Если завтра тут все заглохнет, перейдем в тему Цывиной. ..
Елена, респект!!! ))))
Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские
слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ
битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».
Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью:
арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в
острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного
занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в
остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой,
сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу,
насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь
нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь
развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и
понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может
жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге,
вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел
свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся
казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой
арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в
остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому
почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую.
Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при
себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но
работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не
очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но
учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и
сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и
золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все
они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги
есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно
свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он
уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде
можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно
было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили.
Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от
преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке.
Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались
внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и — как ни прятались деньги, а
все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а
вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого
обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал
обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись
недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И
начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая
жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.
Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно
оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались
иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами
острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но
каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в
цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели
совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось
грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант,
замотавшийся и разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от
него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи
в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до
того процветало, что принимались под залог даже казенные смотровые вещи,
как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому
арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот
дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги
немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему
начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же
отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству.
Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и
угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет.
Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы
так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так
только, для очистки совести.
Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой
сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не
спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня
один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой
натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь на
каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея
меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и
быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она
довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и
потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в
острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то
особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги,
выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором
плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по
призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность,
хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то
вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в
остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того
кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким
образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что все
время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с
западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и
пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся
розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина
обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он
был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и
зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по
целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал… Благодаря этим-то
личностям вино не оскудевало в остроге.
Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но
постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не
имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш.
Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и
калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах,
арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решоных,
было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну.
Если недостанет на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть
частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как
я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в
острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне
прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже
видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под
судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там
лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали.
Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же
остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та
бросилась бежать за мной… «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!
» — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее
копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку
я долго берег у себя.
II
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются
теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в
воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались,
слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое,
однообразное, удушающее.
Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне
теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.
Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как
будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или,
лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной
в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но
скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала
останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже
довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю
неожиданность такого существования и все более и более дивился на него.
Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей
каторги; я никогда не мог примириться с нею.
Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое
отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в
остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и
в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали
на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень не многие), а по ночам
иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так
тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость
и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее,
сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на
воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам,
особенно летом; он работает на себя, работает с разумною целью, и ему
несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так
что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его
заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей
бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна
и скучна для каторжного, то сама по себе, как работа, она разумна: арестант
делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и
цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее,
спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного
ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу
земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы
через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть,
да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание
обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не
достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки,
бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной
работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно
тем, что вынужденная.
Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел
понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости
казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые
казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег,
нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день
был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог
рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой
своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть
арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам
острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если
навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты
последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать.
Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы,
в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие.
Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в
других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось
бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку,
хотя, конечно, большею частью бессознательно.
Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли,
что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь
судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную
пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную
пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство
же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не
выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы
голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и
этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных
печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка
заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня
ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на
это никакого внимания.
Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким
новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне
пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные,
кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу.
Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из
колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся
к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.
Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот
барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал
отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой
сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая
часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили
свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота
была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее
отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились
арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе
руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой
казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в
казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло
в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в
приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра —
утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.
— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант,
сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом
черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом,
— постой!
— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь,
монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.
«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того
только и надо было толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде
добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим
презрением.
— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на
острожном чистяке! 1 Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.
—-
1 Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Прим. автора.)
Толстяк наконец рассердился.
— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.
— То и есть, что птица!
— Какая?
— Такая.
— Какая такая?
— Да уж одно слово такая.
— Да какая?
Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки,
как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет
драка. Для меня все это было ново, и я смотрел с любопытством. Но
впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и
разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же
никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало
нравы острога.
Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него
смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было
поддерживать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая
именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника,
стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху
вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно
произнес:
— Каган!..
То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал
находчивость арестанта.
— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался
на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.
Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.
— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.
— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за
угла.
Наталья:
07.11.2018 в 08:51
Оценка комментария: Thumb up Thumb down +13
Малахов запустил в «Прямом эфире» порносайт:вот вам голый гомик,да не какой-нибудь, а сам потомок Фёдора Ивановича Шаляпина, вот вам сорокалетняя девушка,посмотрите, какой она была 20 лет назад-и сейчас ещё даёт стране угля,может и на фортепиано сбацать, и на других…э…предметах, вот вам краснодарский проститут с татуировками из порнохаты, а вот владелица борделя Калашникова, которая подберёт пожилым дэвушкам мужчинку в самом соку, а вот бандерша-бизнесвумен,тощая, как селёдка, с ней можно сговориться о цене.
Наталья:
09.11.2018 в 10:42
Оценка комментария: Thumb up Thumb down +12
Может быть, ангина,
Может быть, цирроз.
Валя-Валентина,
Что с тобой стряслось?
Была знатной шлюшкой,
Завсегда боец,
А теперь Валюшке
Кажется, триндец?
Вот ужо не дышит.
Весь бордель в слезах.
Мазур в ухо дышит.
Цымбалюк в крестах.
Ужель та самая Валентина? 🙂 Еще одна благодарная за оскорбления???
Мдя, были времена, и ЩЩЩто??? Кстати, Елена, промахнулась. Там был не один стих. Плохо работаете!!!! А приемчик-то подлый, очень ярко характеризующий Елену. Дык вот, дамы, просто приятные и приятные во всех отношениях. Как видите, всё течет, все изменяется. И Наталья- это не притча во языцех.
Мало ли кто писал, и что писал! Ей тоже от меня доставалось. А потом разобралась с вашей природой,точнее, в вашей породе. Да и Натальиной тоже. Мне с вами не по пути. Не мой формат, когда лукавят, льстят, выискивают компромат, прикрываются никами (НЭТ. До сих пор хохочу, как Н. прокатила эту НЭТ с её когнитивностью.) и коллективно травят. А потом, картинно заламывая руки, на ходу переобуваясь, взывают к руководству: помохите. За что боролись, на то и напоролись.
Это кого вы тут ПРОКАТИЛИ? НЭТ? Это кто-нибудь заметил?Серьезно? Вы хохотали? Не лопнули от смеха, *православная*?
» Мне с вами не по пути.»
Вот уж точно. Особенно со второй частью ника.
Юля, опять тупой троллинг 🙂 Та Валентина, что ранее писала, никогда бы не нашла у Натальи одобрения, т.к. поддерживала ненавистную Цымбалюк. Просто в очередной раз воспользовались ником человека, давно покинувшего форум. Я сама такую тупость наблюдала на Дни.ру вроде как под моим ником посты были… 🙂 ущербные люди…
Лена, согласна. Та Валентина очень деликатно общалась и уходила при малейшем наезде бабоски.
Успокойтесь, Елена. Вы непрозорливая. Я та самая. Я по-прежнему за Виталину. Но против вашей групповой деятельности на форуме.
Девочки, да все фирменные словечки и выражения бабхен… один в один, даже смешно, забывает что ли, что от Вали пишет….
Валя-Валентина,
Что с тобой стряслось?
Была знатной шлюшкой,
Завсегда боец,
А теперь Валюшке
Кажется, триндец? ©
Когда смеркалось, нас всех вводили в казармы, где и запирали на всю
ночь. Мне всегда было тяжело возвращаться со двора в нашу казарму. Это была
длинная, низкая и душная комната, тускло освещенная сальными свечами, с
тяжелым, удушающим запахом. Не понимаю теперь, как я выжил в ней десять лет.
На нарах у меня было три доски: это было все мое место. На этих же нарах
размещалось в одной нашей комнате человек тридцать народу. Зимой запирали
рано; часа четыре надо было ждать, пока все засыпали. А до того — шум, гам,
хохот, ругательства, звук цепей, чад и копоть, бритые головы, клейменые
лица, лоскутные платья, все — обруганное, ошельмованное… да, живуч
человек! Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое
лучшее его определение.
Помещалось нас в остроге всего человек двести пятьдесят — цифра почти
постоянная. Одни приходили, другие кончали сроки и уходили, третьи умирали.
И какого народу тут не было! Я думаю, каждая губерния, каждая полоса России
имела тут своих представителей. Были и инородцы, было несколько ссыльных
даже из кавказских горцев. Все это разделялось по степени преступлений, а
следовательно, по числу лет, определенных за преступление. Надо полагать,
что не было такого преступления, которое бы не имело здесь своего
представителя. Главное основание всего острожного населения составляли
ссыльнокаторжные разряда гражданского (сильнокаторжные, как наивно
произносили сами арестанты). Это были преступники, совершенно лишенные
всяких прав состояния, отрезанные ломти от общества, с проклейменным лицом
для вечного свидетельства об их отвержении. Они присылались в работу на
сроки от восьми до двенадцати лет и потом рассылались куда-нибудь по
сибирским волостям в поселенцы. Были преступники и военного разряда, не
лишенные прав состояния, как вообще в русских военных арестантских ротах.
Присылались они на короткие сроки; по окончании же их поворачивались туда
же, откуда пришли, в солдаты, в сибирские линейные батальоны. Многие из них
почти тотчас же возвращались обратно в острог за вторичные важные
преступления, но уже не на короткие сроки, а на двадцать лет. Этот разряд
назывался «всегдашним». Но «всегдашние» все еще не совершенно лишались всех
прав состояния. Наконец, был еще один особый разряд самых страшных
преступников, преимущественно военных, довольно многочисленный. Назывался он
«особым отделением». Со всей Руси присылались сюда преступники. Они сами
считали себя вечными и срока работ своих не знали. По закону им должно было
удвоять и утроять рабочие уроки. Содержались они при остроге впредь до
открытия в Сибири самых тяжких каторжных работ. «Вам на срок, а нам вдоль по
каторге», — говорили они другим заключенным. Я слышал, что разряд этот
уничтожен. Кроме того, уничтожен при нашей крепости и гражданский порядок, а
заведена одна общая военно-арестантская рота. Разумеется, с этим вместе
переменилось и начальство. Я описываю, стало быть, старину, дела давно
минувшие и прошедшие…
Давно уж это было; все это снится мне теперь, как во сне. Помню, как я
вошел в острог. Это было вечером, в декабре месяце. Уже смеркалось; народ
возвращался с работы; готовились к поверке. Усатый унтер-офицер отворил мне
наконец двери в этот странный дом, в котором я должен был пробыть столько
лет, вынести столько таких ощущений, о которых, не испытав их на самом деле,
я бы не мог иметь даже приблизительного понятия. Например, я бы никогда не
мог представить себе: что страшного и мучительного в том, что я во все
десять лет моей каторги ни разу, ни одной минуты не буду один? На работе
всегда под конвоем, дома с двумястами товарищей и ни разу, ни разу — один!
Впрочем, к этому ли еще мне надо было привыкать!
Были здесь убийцы невзначай и убийцы по ремеслу, разбойники и атаманы
разбойников. Были просто мазурики и бродяги-промышленники по находным
деньгам или по столевской части. Были и такие, про которых трудно решить: за
что бы, кажется, они могли прийти сюда? А между тем у всякого была своя
повесть, смутная и тяжелая, как угар от вчерашнего хмеля. Вообще о былом
своем они говорили мало, не любили рассказывать и, видимо, старались не
думать о прошедшем. Я знал из них даже убийц до того веселых, до того
никогда не задумывающихся, что можно было биться об заклад, что никогда
совесть не сказала им никакого упрека. Но были и мрачные дни, почти всегда
молчаливые. Вообще жизнь свою редко кто рассказывал, да и любопытство было
не в моде, как-то не в обычае, не принято. Так разве, изредка, разговорится
кто-нибудь от безделья, а другой хладнокровно и мрачно слушает. Никто здесь
никого не мог удивить. «Мы — народ грамотный! » — говорили они часто, с
каким-то странным самодовольствием. Помню, как однажды один разбойник,
хмельной (в каторге иногда можно было напиться), начал рассказывать, как он
зарезал пятилетнего мальчика, как он обманул его сначала игрушкой, завел
куда-то в пустой сарай да там и зарезал. Вся казарма, доселе смеявшаяся его
шуткам, закричала как один человек, и разбойник принужден был замолчать; не
от негодования закричала казарма, а так, потому что не надо было про это
говорить, потому что говорить про это не принято. Замечу, кстати, что этот
народ был действительно грамотный и даже не в переносном, а в буквальном
смысле. Наверно, более половины из них умело читать и писать. В каком другом
месте, где русский народ собирается в больших местах, отделите вы от него
кучу в двести пятьдесят человек, из которых половина была бы грамотных?
Слышал я потом, кто-то стал выводить из подобных же данных, что грамотность
губит народ. Это ошибка: тут совсем другие причины; хотя и нельзя не
согласиться, что грамотность развивает в народе самонадеянность. Но ведь это
вовсе не недостаток. Различались все разряды по платью: у одних половина
куртки была темно-бурая, а другая серая, равно и на панталонах — одна нога
серая, а другая темно-бурая. Один раз, на работе, девчонка-калашница,
подошедшая к арестантам, долго всматривалась в меня и потом вдруг
захохотала. «Фу, как не славно! — закричала она, — и серого сукна недостало,
и черного сукна недостало! » Были и такие, у которых вся куртка была одного
серого сукна, но только рукава были темно-бурые. Голова тоже брилась
по-разному: у одних половина головы была выбрита вдоль черепа, у других
поперек.
С первого взгляда можно было заметить некоторую резкую общность во всем
этом странном семействе; даже самые резкие, самые оригинальные личности,
царившие над другими невольно, и те старались попасть в общий тон всего
острога. Вообще же скажу, что весь этот народ, — за некоторыми немногими
исключениями неистощимо-веселых людей, пользовавшихся за это всеобщим
презрением, — был народ угрюмый, завистливый, страшно тщеславный,
хвастливый, обидчивый и в высшей степени формалист. Способность ничему не
удивляться была величайшею добродетелью. Все были помешаны на том: как
наружно держать себя. Но нередко самый заносчивый вид с быстротою молнии
сменялся на самый малодушный. Было несколько истинно сильных людей; те были
просты и не кривлялись. Но странное дело: из этих настоящих сильных людей
было несколько тщеславных до последней крайности, почти до болезни. Вообще
тщеславие, наружность были на первом плане. Большинство было развращено и
страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были беспрерывные: это был ад, тьма
кромешная. Но против внутренних уставов и принятых обычаев острога никто не
смел восставать; все подчинялись. Бывали характеры резко выдающиеся, трудно,
с усилием подчинявшиеся, но все-таки подчинявшиеся. Приходили в острог
такие, которые уж слишком зарвались, слишком выскочили из мерки на воле, так
что уж и преступления свои делали под конец как будто не сами собой, как
будто сами не зная зачем, как будто в бреду, в чаду; часто из тщеславия,
возбужденного в высочайшей степени. Но у нас их тотчас осаживали, несмотря
на то что иные, до прибытия в острог, бывали ужасом целых селений и городов.
Оглядываясь кругом, новичок скоро замечал, что он не туда попал, что здесь
дивить уже некого, и приметно смирялся и попадал в общий тон. Этот общий тон
составлялся снаружи из какого-то особенного собственного достоинства,
которым был проникнут чуть не каждый обитатель острога. Точно в самом деле
звание каторжного, решеного, составляло какой-нибудь чин, да еще и почетный.
Ни признаков стыда и раскаяния! Впрочем, было и какое-то наружное смирение,
так сказать официальное, какое-то спокойное резонерство: «Мы погибший народ,
— говорили они, — не умел на воле жить, теперь ломай зеленую улицу, поверяй
ряды». — «Не слушался отца и матери, послушайся теперь барабанной шкуры». —
«Не хотел шить золотом, теперь бей камни молотом». Все это говорилось часто,
и в виде нравоучения и в виде обыкновенных поговорок и присловий, но никогда
серьезно. Все это были только слова. Вряд ли хоть один из них сознавался
внутренно в своей беззаконности. Попробуй кто не из каторжных упрекнуть
арестанта его преступлением, выбранить его (хотя, впрочем, не в русском духе
попрекать преступника) — ругательствам не будет конца. А какие были они все
мастера ругаться! Ругались они утонченно, художественно. Ругательство
возведено было у них в науку; старались взять не столько обидным словом,
сколько обидным смыслом, духом, идеей — а это утонченнее, ядовитее.
Беспрерывные ссоры еще более развивали между ними эту науку. Весь этот народ
работал из-под палки, — следственно, он был праздный, следственно,
развращался: если и не был прежде развращен, то в каторге развращался. Все
они собрались сюда не своей волей; все они были друг другу чужие.
«Черт трое лаптей сносил, прежде чем нас собрал в одну кучу! » —
говорили они про себя сами; а потому сплетни, интриги, бабьи наговоры,
зависть, свара, злость были всегда на первом плане в этой кромешной жизни.
Никакая баба не в состоянии была быть такой бабой, как некоторые из этих
душегубцев. Повторяю, были и между ними люди сильные, характеры, привыкшие
всю жизнь свою ломить и повелевать, закаленные, бесстрашные. Этих как-то
невольно уважали; они же, с своей стороны, хотя часто и очень ревнивы были к
своей славе, но вообще старались не быть другим в тягость, в пустые
ругательства не вступали, вели себя с необыкновенным достоинством, были
рассудительны и почти всегда послушны начальству, — не из принципа
послушания, не из состояния обязанностей, а так, как будто по какому-то
контракту, сознав взаимные выгоды. Впрочем, с ними и поступали осторожно. Я
помню, как одного из таких арестантов, человека бесстрашного и решительного,
известного начальству своими зверскими наклонностями, за какое-то
преступление позвали раз к наказанию. День был летний, пора нерабочая.
Штаб-офицер, ближайший и непосредственный начальник острога, приехал сам в
кордегардию, которая была у самых наших ворот, присутствовать при наказании.
Этот майор был какое-то фатальное существо для арестантов; он довел их до
того, что они его трепетали. Был он до безумия строг, «бросался на людей»,
как говорили каторжные. Всего более страшились они в нем его
проницательного, рысьего взгляда, от которого нельзя было ничего утаить. Он
видел как-то не глядя. Входя в острог, он уже знал, что делается на другом
конце его. Арестанты звали его восьмиглазым. Его система была ложная. Он
только озлоблял уже озлобленных людей своими бешеными, злыми поступками, и
если б не было над ним коменданта, человека благородного и рассудительного,
умерявшего иногда его дикие выходки, то он бы наделал больших бед своим
управлением. Не понимаю, как он мог кончить благополучно; он вышел в
отставку жив и здоров, хотя, впрочем, и был отдан под суд.
Арестант побледнел, когда его кликнули. Обыкновенно он молча и
решительно ложился под розги, молча терпел наказание и вставал после
наказания как встрепанный, хладнокровно и философски смотря на
приключившуюся неудачу. С ним, впрочем, поступали всегда осторожно. Но на
этот раз он считал себя почему-то правым. Он побледнел и, тихонько от
конвоя, успел сунуть в рукав острый английский сапожный нож. Ножи и всякие
острые инструменты страшно запрещались в острога. Обыски были частые,
неожиданные и нешуточные, наказания жестокие; но так как трудно отыскать у
вора, когда тот решится что-нибудь особенно спрятать, и так как ножи и
инструменты были всегдашнею необходимостью в остроге, то, несмотря на
обыски, они не переводились. А если и отбирались, то немедленно заводились
новые. Вся каторга бросилась к забору и с замиранием сердца смотрела сквозь
щели паль. Все знали, что Петров в этот раз не захочет лечь под розги и что
майору пришел конец. Но в самую решительную минуту наш майор сел на дрожки и
уехал, поручив исполнение экзекуции другому офицеру. «Сам бог спас! » —
говорили потом арестанты. Что касается до Петрова, он преспокойно вытерпел
наказание. Его гнев прошел с отъездом майора. Арестант послушен и покорен до
известной степени; но есть крайность, которую не надо переходить. Кстати:
ничего не может быть любопытнее этих странных вспышек нетерпения и
строптивости. Часто человек терпит несколько лет, смиряется, выносит
жесточайшие наказания и вдруг прорывается на какой-нибудь малости, на
каком-нибудь пустяке, почти за ничто. На иной взгляд, можно даже назвать его
сумасшедшим; да так и делают.
Я сказал уже, что в продолжение нескольких лет я не видал между этими
людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем
преступлении и что большая часть из них внутренно считает себя совершенно
правыми. Это факт. Конечно, тщеславие, дурные примеры, молодечество, ложный
стыд во многом тому причиною. С другой стороны, кто может сказать, что
выследил глубину этих погибших сердец и прочел в них сокровенное от всего
света? Но ведь можно же было, во столько лет, хоть что-нибудь заметить,
поймать, уловить в этих сердцах хоть какую-нибудь черту, которая бы
свидетельствовала о внутренней тоске, о страдании. Но этого не было,
положительно не было. Да, преступление, кажется, не может быть осмысленно с
данных, готовых точек зрения, и философия его несколько потруднее, чем
полагают. Конечно, остроги и система насильных работ не исправляют
преступника; они только его наказывают и обеспечивают общество от дальнейших
покушений злодея на его спокойствие. В преступнике же острог и самая
усиленная каторжная работа развивают только ненависть, жажду запрещенных
наслаждений и страшное легкомыслие. Но я твердо уверен, что и знаменитая
келейная система достигает только ложной, обманчивой, наружной цели. Она
высасывает жизненный сок из человека, энервирует его душу, ослабляет ее,
пугает ее и потом нравственно иссохшую мумию, полусумасшедшего представляет
как образец исправления и раскаяния. Конечно, преступник, восставший на
общество, ненавидит его и почти всегда считает себя правым, а его виноватым.
К тому же он уже потерпел от него наказание, а чрез это почти считает себя
очищенным, сквитавшимся. Можно судить, наконец, с таких точек зрения, что
чуть ли не придется оправдать самого преступника. Но, несмотря на
всевозможные точки зрения, всякий согласится, что есть такие преступления,
которые всегда и везде, по всевозможным законам, с начала мира считаются
бесспорными преступлениями и будут считаться такими до тех пор, покамест
человек останется человеком. Только в остроге я слышал рассказы о самых
страшных, о самых неестественных поступках, о самых чудовищных убийствах,
рассказанные с самым неудержимым, с самым детски веселым смехом. Особенно не
выходит у меня из памяти один отцеубийца. Он был из дворян, служил и был у
своего шестидесятилетнего отца чем-то вроде блудного сына. Поведения он был
совершенно беспутного, ввязался в долги. Отец ограничивал его, уговаривал;
но у отца был дом, был хутор, подозревались деньги, и — сын убил его, жаждая
наследства. Преступление было разыскано только через месяц. Сам убийца подал
заявление в полицию, что отец его исчез неизвестно куда. Весь этот месяц он
провел самым развратным образом. Наконец, в его отсутствие, полицию нашла
тело. На дворе, во всю длину его, шла канавка для стока нечистот, прикрытая
досками. Тело лежало в этой канавке. Оно было одето и убрано, седая голова
была отрезана прочь, приставлена к туловищу, а под голову убийца подложил
подушку. Он не сознался; был лишен дворянства, чина и сослан в работу на
двадцать лет. Все время, как я жил с ним, он был в превосходнейшем, в
веселейшем расположении духа. Это был взбалмошный, легкомысленный,
нерассудительный в высшей степени человек, хотя совсем не глупец. Я никогда
не замечал в нем какой-нибудь особенной жестокости. Арестанты презирали его
не за преступление, о котором не было и помину, а за дурь, за то, что не
умел вести себя. В разговорах он иногда вспоминал о своем отце. Раз, говоря
со мной о здоровом сложении, наследственном в их семействе, он прибавил:
«Вот родитель мой, так тот до самой кончины своей не жаловался ни на какую
болезнь». Такая зверская бесчувственность, разумеется, невозможна. Это
феномен; тут какой-нибудь недостаток сложения, какое-нибудь телесное и
нравственное уродство, еще не известное науке, а не просто преступление.
Разумеется, я не верил этому преступлению. Но люди из его города, которые
должны были знать все подробности его истории, рассказывали мне все его
дело. Факты были до того ясны, что невозможно было не верить.
Арестанты слышали, как он кричал однажды ночью во сне: «Держи его,
держи! Голову-то ему руби, голову, голову!.. «
Елена, спасибо.
ЛЮБВИ ВАМ К РОДИНЕ И УВАЖЕНИЯ К НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ!
С матерщинницами и провокаторшами НАМ не по пути. ..
Натаха, снимай маску, кончай ломмть комедь, тебя мы узнмем уже с первых двух слов… а ты здесь целые простыни строчишь от «вали», сейчас прочла и опять в этом убедилась, ты помнишь именно то, на что только Наталья может обратить внимание и запомнить!!! Меня ты не обманешь, я тебя за версту вижу….
Девочки, мы впустую спамим тему….)))))
Что мы ей доказываем? Смысл?
Игнорить с таким НИКом, да ее везде уже игнорят и минусуют и без нас. ..)))
Валя на месте. Прекрати очередную истерику. Про истерику запомнили, наверное, только ты и я.
вообще, вся эта возня с никами… Клиника. Целыми днями сидеть, рыться в темах. Что это вам дает? Тратить свое драгоценное время на эту пустоту, про которую завтра вы сами не вспомните.
Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские
слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ
битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».
Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью:
арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в
острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного
занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в
остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой,
сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу,
насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь
нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь
развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и
понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может
жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге,
вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел
свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся
казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой
арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в
остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому
почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую.
Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при
себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но
работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не
очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но
учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и
сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и
золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все
они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги
есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно
свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он
уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде
можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно
было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили.
Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от
преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке.
Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались
внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и — как ни прятались деньги, а
все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а
вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого
обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал
обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись
недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И
начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая
жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.
Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно
оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались
иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами
острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но
каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в
цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели
совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось
грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант,
замотавшийся и разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от
него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи
в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до
того процветало, что принимались под залог даже казенные смотровые вещи,
как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому
арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот
дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги
немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему
начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же
отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству.
Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и
угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет.
Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы
так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так
только, для очистки совести.
Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой
сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не
спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня
один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой
натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь на
каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея
меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и
быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она
довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и
потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в
острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то
особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги,
выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором
плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по
призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность,
хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то
вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в
остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того
кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким
образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что все
время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с
западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и
пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся
розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина
обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он
был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и
зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по
целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал… Благодаря этим-то
личностям вино не оскудевало в остроге.
Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но
постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не
имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш.
Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и
калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах,
арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решоных,
было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну.
Если недостанет на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть
частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как
я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в
острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне
прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже
видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под
судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там
лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали.
Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же
остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та
бросилась бежать за мной… «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!
» — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее
копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку
я долго берег у себя.
II
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются
теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в
воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались,
слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое,
однообразное, удушающее.
Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне
теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.
Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как
будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или,
лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной
в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но
скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала
останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже
довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю
неожиданность такого существования и все более и более дивился на него.
Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей
каторги; я никогда не мог примириться с нею.
Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое
отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в
остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и
в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали
на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень не многие), а по ночам
иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так
тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость
и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее,
сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на
воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам,
особенно летом; он работает на себя, работает с разумною целью, и ему
несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так
что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его
заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей
бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна
и скучна для каторжного, то сама по себе, как работа, она разумна: арестант
делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и
цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее,
спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного
ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу
земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы
через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть,
да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание
обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не
достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки,
бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной
работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно
тем, что вынужденная.
Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел
понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости
казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые
казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег,
нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день
был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог
рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой
своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть
арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам
острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если
навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты
последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать.
Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы,
в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие.
Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в
других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось
бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку,
хотя, конечно, большею частью бессознательно.
Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли,
что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь
судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную
пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную
пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство
же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не
выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы
голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и
этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных
печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка
заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня
ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на
это никакого внимания.
Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким
новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне
пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные,
кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу.
Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из
колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся
к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.
Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот
барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал
отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой
сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая
часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили
свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота
была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее
отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились
арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе
руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой
казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в
казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло
в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в
приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра —
утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.
— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант,
сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом
черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом,
— постой!
— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь,
монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.
«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того
только и надо было толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде
добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим
презрением.
— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на
острожном чистяке! 1 Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.
—-
1 Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Прим. автора.)
Толстяк наконец рассердился.
— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.
— То и есть, что птица!
— Какая?
— Такая.
— Какая такая?
— Да уж одно слово такая.
— Да какая?
Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки,
как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет
драка. Для меня все это было ново, и я смотрел с любопытством. Но
впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и
разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же
никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало
нравы острога.
Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него
смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было
поддерживать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая
именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника,
стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху
вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно
произнес:
— Каган!..
То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал
находчивость арестанта.
— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался
на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.
Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.
— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.
— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за
угла.
Туь какая-то сложная психология — мазохизм?
Стокгольмский синдром? ))))
…тут…
Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские
слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ
битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».
Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью:
арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в
острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного
занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в
остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой,
сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу,
насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь
нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь
развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и
понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может
жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге,
вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел
свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся
казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой
арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в
остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому
почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую.
Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при
себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но
работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не
очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но
учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и
сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и
золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все
они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги
есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно
свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он
уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде
можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно
было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили.
Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от
преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке.
Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались
внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и — как ни прятались деньги, а
все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а
вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого
обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал
обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись
недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И
начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая
жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.
Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно
оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались
иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами
острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но
каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в
цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели
совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось
грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант,
замотавшийся и разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от
него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи
в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до
того процветало, что принимались под залог даже казенные смотровые вещи,
как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому
арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот
дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги
немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему
начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же
отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству.
Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и
угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет.
Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы
так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так
только, для очистки совести.
Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой
сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не
спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня
один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой
натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь на
каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея
меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и
быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она
довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и
потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в
острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то
особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги,
выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором
плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по
призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность,
хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то
вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в
остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того
кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким
образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что все
время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с
западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и
пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся
розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина
обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он
был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и
зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по
целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал… Благодаря этим-то
личностям вино не оскудевало в остроге.
Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но
постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не
имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш.
Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и
калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах,
арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решоных,
было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну.
Если недостанет на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть
частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как
я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в
острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне
прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже
видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под
судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там
лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали.
Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же
остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та
бросилась бежать за мной… «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!
» — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее
копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку
я долго берег у себя.
II
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются
теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в
воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались,
слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое,
однообразное, удушающее.
Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне
теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.
Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как
будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или,
лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной
в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но
скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала
останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже
довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю
неожиданность такого существования и все более и более дивился на него.
Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей
каторги; я никогда не мог примириться с нею.
Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое
отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в
остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и
в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали
на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень не многие), а по ночам
иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так
тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость
и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее,
сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на
воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам,
особенно летом; он работает на себя, работает с разумною целью, и ему
несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так
что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его
заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей
бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна
и скучна для каторжного, то сама по себе, как работа, она разумна: арестант
делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и
цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее,
спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного
ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу
земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы
через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть,
да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание
обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не
достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки,
бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной
работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно
тем, что вынужденная.
Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел
понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости
казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые
казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег,
нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день
был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог
рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой
своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть
арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам
острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если
навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты
последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать.
Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы,
в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие.
Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в
других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось
бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку,
хотя, конечно, большею частью бессознательно.
Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли,
что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь
судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную
пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную
пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство
же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не
выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы
голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и
этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных
печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка
заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня
ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на
это никакого внимания.
Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким
новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне
пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные,
кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу.
Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из
колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся
к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.
Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот
барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал
отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой
сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая
часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили
свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота
была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее
отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились
арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе
руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой
казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в
казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло
в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в
приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра —
утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.
— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант,
сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом
черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом,
— постой!
— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь,
монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.
«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того
только и надо было толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде
добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим
презрением.
— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на
острожном чистяке! 1 Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.
—-
1 Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Прим. автора.)
Толстяк наконец рассердился.
— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.
— То и есть, что птица!
— Какая?
— Такая.
— Какая такая?
— Да уж одно слово такая.
— Да какая?
Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки,
как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет
драка. Для меня все это было ново, и я смотрел с любопытством. Но
впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и
разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же
никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало
нравы острога.
Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него
смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было
поддерживать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая
именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника,
стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху
вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно
произнес:
— Каган!..
То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал
находчивость арестанта.
— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался
на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.
Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.
— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.
— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за
угла.
Значит, говоришь , из-за НАС народ с форума уходит???
Кто там подтявкивал, что – и + накручивать можно? Дафна из погреба или обильно политая во всех темах Валентина?
Работа пяти минут по 2-3 случайным веткам. ПЯТЬ МИНУТ! Это ж надо так нагадить на форуме.
Светлане Н ,Владе, Виктории
Наталья: 22.10.2018 в 12:43 Оценка комментария: -26
-Когда читаю посты,подобные Вашим,хочется вернуть крепостное право и обратно загнвть подобных Вам в хлев.Вы кто такая, что Вы для страны сделали, кто из людей Вас вспомнит, когда уйдёте в мир иной? Ничтожество,фикция,ноль,?А что Вы из себя представляете?Дерьмо на палке, вот что.
-Одно место с пальцем в Ваших мозгах.
— безграмотная чувырла, которая учит жить.Прэлэстно.
-питерская дурка,московская дурка,воронежская дурка,кукуевская дурка.Ты, видно, из последней.Не только чувырла,но ещё и навязчивая пмихопатка.
-Полное мнительное хроническое отупение.
Люсе, Ольге и другим
Наталья: 21.10.2018 в 07:15 Оценка комментария: -13
У Вас поди дети выросли бездельниками,сидят до сих пор на Вашей шее, что Вы матери Кокорина откровенно завидуете?
Людмиле;
Наталья: 23.11.2018 в 01:17 Оценка комментария: -15
А Вы какого поля?Поищите тараканов у себя.
Наталья: 26.11.2018 в 00:40 Оценка комментария: -11
Марго,у Вас что ни коммент,то каки-макаки..Бывают дуры,друг Горацио,на свете, но больше чем Марго,не сыщешь ни за что.
Елене Сорокиной;
Наталья: 26.11.2018 в 06:46 Оценка комментария: -13
Частота и градус-твои прерогативы.Выброшенная из эскортниц, запиваешь горе всякой дрянью и занюхиваешь травкой.
Ольге Майер: Наталья: 07.11.2018 в 19:27 Оценка комментария: -5
Если донской говор для Вас-норма русского языка, то вот что я Вам скажу:-Ох и гладкая ты кобыла!У тебя одно на уме-в носе ковырять да подолы задирать.
Наталья: 07.11.2018 в 19:34
Какая же Вы,Оля,право,дура!Вы помесь дога с носорогом
Наталья: 07.11.2018 в 19:48
Есть очень умная,образованная, талантливая нация-евреи.Они сами дали название своим соотечественникам, подлым,глупым и жадным,тем,которые позорят их нацию,-нарекли их жидами.Ранифированная жидовка-Ольга Мейер,Вы,значится
Наталья: 07.11.2018 в 23:35
Тупо-как раз про тебя.Ты ведь скотница в переводе,доярка, холопка.
Наталья: 08.11.2018 в 01:15
Твоего общества точно отброс.С жидовнёй никто не связывается, а как евреи их презирают!
Наталья: 08.11.2018 в 01:31
А лексикончик-то у тебя дешёвой зэчки- шестёрки.Вот оно,дерьмо со скотного двора.
ЛЮБИМИЦА ФОРУМА . НЕ, Я МОГУ ЕЩЕ…
И хватит минусы накручивать.
Валя, насладились?так как там с фарисейством?
А никак. Как и было! Людмила — фарисей! Очень яркий! А вы, включая тебя, — её подтанцовка.
Аргумент:
Фарисей — Сам дурак.
А вы прекрасно подмахиваете, *православная*.. Хотя год назад обтекали. В этом же костюмчике танцуете?
Точно также, как и плюсы.
Юля, а главное затравленное «беззащитное существо»…. здесь можно весь почти форум перепечатать таких «эпитетов»…
Ника, большинство форумчан вообще больше после ее оскорблений не появлялись.
Валя! Защитите затравленную!
Докажи.
Вы очки протрите и увидите сами доказательства..))
Не тыкайте, *православная*.
Вам скопированного мало, *православная*???
Тогда посмотрите имена,там все написано.
Ты пожалуйся на меня Наталье Назаровой.
Девушки, не отвлекаемся на провокации…
Юлечка выберите здесь нужный текст.
Они нарочно спамят..
И подбираем цитаты по национализму и нецензурщину. Простую ругань не надо.
Мила, будет сделано (пританцовывая!!!)
)))))))
Она нас специально провоцирует…
Ну ее. У нас дела поважнее…
Националистические оскорбления — УГОЛОВНАЯ статья. .ИХ надо подобрать еще. .
А мы тут до провокаторов что-то доносим.)
Скопировать надо все срочно. Сиотрите, что Дафна делает. . Модератор может завтра все вычистить…
Мила, по-моему, предостаточно…
Надеюсь, Юля скопировала, а завтра можно и отправить, «дела вдаль не отлагая»… 🙂
Девочки, вот ведь что творится… Натаха от безысходки совсем умом тронулась… мамадорохая.
Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские
слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ
битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».
Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью:
арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в
острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного
занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в
остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой,
сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу,
насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь
нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь
развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и
понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может
жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге,
вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел
свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся
казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой
арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в
остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому
почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую.
Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при
себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но
работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не
очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но
учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и
сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и
золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все
они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги
есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно
свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он
уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде
можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно
было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили.
Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от
преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке.
Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались
внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и — как ни прятались деньги, а
все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а
вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого
обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал
обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись
недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И
начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая
жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.
Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно
оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались
иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами
острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но
каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в
цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели
совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось
грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант,
замотавшийся и разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от
него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи
в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до
того процветало, что принимались под залог даже казенные смотровые вещи,
как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому
арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот
дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги
немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему
начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же
отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству.
Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и
угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет.
Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы
так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так
только, для очистки совести.
Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой
сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не
спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня
один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой
натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь на
каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея
меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и
быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она
довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и
потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в
острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то
особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги,
выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором
плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по
призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность,
хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то
вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в
остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того
кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким
образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что все
время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с
западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и
пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся
розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина
обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он
был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и
зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по
целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал… Благодаря этим-то
личностям вино не оскудевало в остроге.
Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но
постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не
имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш.
Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и
калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах,
арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решоных,
было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну.
Если недостанет на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть
частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как
я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в
острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне
прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже
видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под
судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там
лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали.
Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же
остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та
бросилась бежать за мной… «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!
» — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее
копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку
я долго берег у себя.
II
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются
теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в
воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались,
слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое,
однообразное, удушающее.
Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне
теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.
Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как
будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или,
лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной
в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но
скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала
останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже
довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю
неожиданность такого существования и все более и более дивился на него.
Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей
каторги; я никогда не мог примириться с нею.
Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое
отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в
остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и
в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали
на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень не многие), а по ночам
иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так
тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость
и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее,
сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на
воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам,
особенно летом; он работает на себя, работает с разумною целью, и ему
несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так
что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его
заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей
бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна
и скучна для каторжного, то сама по себе, как работа, она разумна: арестант
делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и
цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее,
спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного
ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу
земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы
через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть,
да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание
обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не
достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки,
бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной
работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно
тем, что вынужденная.
Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел
понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости
казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые
казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег,
нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день
был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог
рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой
своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть
арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам
острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если
навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты
последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать.
Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы,
в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие.
Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в
других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось
бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку,
хотя, конечно, большею частью бессознательно.
Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли,
что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь
судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную
пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную
пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство
же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не
выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы
голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и
этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных
печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка
заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня
ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на
это никакого внимания.
Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким
новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне
пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные,
кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу.
Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из
колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся
к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.
Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот
барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал
отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой
сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая
часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили
свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота
была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее
отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились
арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе
руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой
казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в
казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло
в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в
приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра —
утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.
— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант,
сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом
черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом,
— постой!
— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь,
монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.
«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того
только и надо было толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде
добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим
презрением.
— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на
острожном чистяке! 1 Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.
—-
1 Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Прим. автора.)
Толстяк наконец рассердился.
— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.
— То и есть, что птица!
— Какая?
— Такая.
— Какая такая?
— Да уж одно слово такая.
— Да какая?
Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки,
как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет
драка. Для меня все это было ново, и я смотрел с любопытством. Но
впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и
разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же
никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало
нравы острога.
Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него
смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было
поддерживать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая
именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника,
стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху
вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно
произнес:
— Каган!..
То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал
находчивость арестанта.
— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался
на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.
Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.
— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.
— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за
угла.
— Да, держи, подерутся! — раздалось в ответ. — У нас народ бойкий,
задорный; семеро одного не боимся…
— Да и оба хороши! Один за фунт хлеба в острог пришел, а другой —
крыночная блудница, у бабы простоквашу поел, зато и кнута хватил.
— Ну-ну-ну! полно вам, — закричал инвалид, проживавший для порядка в
казарме и поэтому спавший в углу на особой койке.
— Вода, ребята! Невалид Петрович проснулся! Невалиду Петровичу,
родимому братцу!
— Брат… Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! — ворчал
инвалид, натягивая в рукава шинель…
Готовились к поверке; начало рассветать; в кухне набралась густая толпа
народу, не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых
шапках у хлеба, который резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались
артелью, в каждую кухню по двое. У них же сохранялся и кухонный нож для
резания хлеба и мяса, на всю кухню один.
По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в
полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми
стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и
шум был нестерпимый; но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по
углам.
— Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй! — проговорил молодой
арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта.
— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — проговорил тот, не поднимая глаз и
стараясь ужевать хлеб своими беззубыми деснами.
— А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер; право-ну.
— Нет, ты сперва помри, а я после…
Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта,
видимо стараясь друг перед другом сохранить свою важность.
— У меня небось не украдут, — говорил один, — я, брат, сам боюсь, как
бы чего не украсть.
— Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу.
— Да чего обожжешь-то! Такой же варнак; больше и названья нам нет…
она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась.
Намедни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу; у
него еще в форштадте дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида купил, вот еще
который потом удавился…
Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские
слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ
битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».
Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью:
арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в
острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного
занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в
остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой,
сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу,
насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь
нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь
развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и
понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может
жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге,
вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел
свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся
казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой
арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в
остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому
почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую.
Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при
себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но
работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не
очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но
учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и
сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и
золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все
они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги
есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно
свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он
уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде
можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно
было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили.
Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от
преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке.
Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались
внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и — как ни прятались деньги, а
все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а
вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого
обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал
обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись
недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И
начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая
жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.
Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно
оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались
иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами
острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но
каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в
цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели
совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось
грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант,
замотавшийся и разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от
него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи
в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до
того процветало, что принимались под залог даже казенные смотровые вещи,
как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому
арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот
дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги
немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему
начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же
отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству.
Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и
угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет.
Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы
так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так
только, для очистки совести.
Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой
сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не
спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня
один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой
натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь на
каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея
меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и
быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она
довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и
потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в
острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то
особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги,
выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором
плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по
призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность,
хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то
вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в
остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того
кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким
образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что все
время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с
западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и
пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся
розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина
обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он
был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и
зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по
целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал… Благодаря этим-то
личностям вино не оскудевало в остроге.
Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но
постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не
имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш.
Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и
калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах,
арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решоных,
было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну.
Если недостанет на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть
частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как
я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в
острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне
прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже
видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под
судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там
лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали.
Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же
остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та
бросилась бежать за мной… «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!
» — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее
копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку
я долго берег у себя.
II
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются
теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в
воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались,
слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое,
однообразное, удушающее.
Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне
теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.
Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как
будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или,
лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной
в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но
скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала
останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже
довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю
неожиданность такого существования и все более и более дивился на него.
Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей
каторги; я никогда не мог примириться с нею.
Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое
отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в
остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и
в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали
на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень не многие), а по ночам
иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так
тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость
и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее,
сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на
воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам,
особенно летом; он работает на себя, работает с разумною целью, и ему
несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так
что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его
заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей
бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна
и скучна для каторжного, то сама по себе, как работа, она разумна: арестант
делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и
цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее,
спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного
ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу
земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы
через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть,
да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание
обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не
достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки,
бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной
работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно
тем, что вынужденная.
Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел
понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости
казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые
казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег,
нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день
был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог
рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой
своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть
арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам
острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если
навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты
последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать.
Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы,
в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие.
Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в
других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось
бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку,
хотя, конечно, большею частью бессознательно.
Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли,
что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь
судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную
пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную
пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство
же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не
выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы
голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и
этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных
печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка
заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня
ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на
это никакого внимания.
Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким
новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне
пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные,
кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу.
Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из
колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся
к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.
Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот
барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал
отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой
сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая
часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили
свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота
была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее
отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились
арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе
руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой
казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в
казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло
в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в
приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра —
утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.
— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант,
сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом
черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом,
— постой!
— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь,
монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.
«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того
только и надо было толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде
добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим
презрением.
— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на
острожном чистяке! 1 Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.
—-
1 Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Прим. автора.)
Толстяк наконец рассердился.
— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.
— То и есть, что птица!
— Какая?
— Такая.
— Какая такая?
— Да уж одно слово такая.
— Да какая?
Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки,
как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет
драка. Для меня все это было ново, и я смотрел с любопытством. Но
впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и
разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же
никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало
нравы острога.
Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него
смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было
поддерживать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая
именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника,
стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху
вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно
произнес:
— Каган!..
То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал
находчивость арестанта.
— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался
на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.
Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.
— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.
— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за
угла.
— Да, держи, подерутся! — раздалось в ответ. — У нас народ бойкий,
задорный; семеро одного не боимся…
— Да и оба хороши! Один за фунт хлеба в острог пришел, а другой —
крыночная блудница, у бабы простоквашу поел, зато и кнута хватил.
— Ну-ну-ну! полно вам, — закричал инвалид, проживавший для порядка в
казарме и поэтому спавший в углу на особой койке.
— Вода, ребята! Невалид Петрович проснулся! Невалиду Петровичу,
родимому братцу!
— Брат… Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! — ворчал
инвалид, натягивая в рукава шинель…
Готовились к поверке; начало рассветать; в кухне набралась густая толпа
народу, не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых
шапках у хлеба, который резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались
артелью, в каждую кухню по двое. У них же сохранялся и кухонный нож для
резания хлеба и мяса, на всю кухню один.
По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в
полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми
стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и
шум был нестерпимый; но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по
углам.
— Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй! — проговорил молодой
арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта.
— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — проговорил тот, не поднимая глаз и
стараясь ужевать хлеб своими беззубыми деснами.
— А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер; право-ну.
— Нет, ты сперва помри, а я после…
Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта,
видимо стараясь друг перед другом сохранить свою важность.
— У меня небось не украдут, — говорил один, — я, брат, сам боюсь, как
бы чего не украсть.
— Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу.
— Да чего обожжешь-то! Такой же варнак; больше и названья нам нет…
она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась.
Намедни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу; у
него еще в форштадте дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида купил, вот еще
который потом удавился…
уважаемая участница форума, Дафна!
зашла я тут на форум … сказать, что удивилась это ничего не сказать(((
о чем/к чему эти скопированные тексты, занимающие треть или более текста всех остальных вместе взятых??? и какое отношение тексты имеют к теме/разговору на форуме ???
дамы, у меня большая просьба к присутствующим , об’ясните мне несведущей к чему эти тексты и для какой цели они( тексты) здесь скопированы???
заранее благодарна
Спам… не дать нормально общаться.
Мне все понятно: прекратить вакханалию с заговорами, интриги,выискивание компроматов, клонов и пр. И я думаю, правильно. Ибо в тот момент их было просто не остановить. Дойти до того, чтобы искатьв соцсетях близких родственников, внучку. Это что?
Пытается помешать написанию обращения в защиту поздравлявших с 9 мая и участников марша Бессмертный полк.
Значит, испугалась. ..)
Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские
слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ
битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».
Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью:
арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в
острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного
занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в
остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой,
сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу,
насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь
нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь
развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и
понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может
жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге,
вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел
свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся
казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой
арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в
остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому
почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую.
Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при
себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но
работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не
очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но
учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и
сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и
золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все
они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги
есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно
свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он
уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде
можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно
было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили.
Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от
преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке.
Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались
внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и — как ни прятались деньги, а
все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а
вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого
обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал
обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись
недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И
начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая
жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.
Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно
оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались
иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами
острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но
каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в
цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели
совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось
грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант,
замотавшийся и разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от
него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи
в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до
того процветало, что принимались под залог даже казенные смотровые вещи,
как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому
арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот
дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги
немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему
начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же
отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству.
Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и
угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет.
Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы
так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так
только, для очистки совести.
Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой
сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не
спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня
один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой
натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь на
каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея
меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и
быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она
довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и
потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в
острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то
особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги,
выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором
плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по
призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность,
хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то
вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в
остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того
кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким
образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что все
время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с
западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и
пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся
розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина
обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он
был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и
зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по
целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал… Благодаря этим-то
личностям вино не оскудевало в остроге.
Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но
постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не
имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш.
Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и
калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах,
арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решоных,
было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну.
Если недостанет на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть
частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как
я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в
острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне
прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже
видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под
судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там
лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали.
Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же
остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та
бросилась бежать за мной… «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!
» — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее
копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку
я долго берег у себя.
II
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются
теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в
воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались,
слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое,
однообразное, удушающее.
Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне
теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.
Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как
будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или,
лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной
в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но
скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала
останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже
довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю
неожиданность такого существования и все более и более дивился на него.
Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей
каторги; я никогда не мог примириться с нею.
Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое
отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в
остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и
в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали
на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень не многие), а по ночам
иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так
тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость
и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее,
сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на
воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам,
особенно летом; он работает на себя, работает с разумною целью, и ему
несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так
что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его
заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей
бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна
и скучна для каторжного, то сама по себе, как работа, она разумна: арестант
делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и
цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее,
спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного
ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу
земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы
через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть,
да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание
обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не
достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки,
бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной
работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно
тем, что вынужденная.
Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел
понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости
казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые
казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег,
нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день
был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог
рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой
своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть
арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам
острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если
навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты
последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать.
Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы,
в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие.
Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в
других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось
бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку,
хотя, конечно, большею частью бессознательно.
Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли,
что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь
судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную
пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную
пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство
же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не
выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы
голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и
этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных
печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка
заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня
ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на
это никакого внимания.
Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким
новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне
пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные,
кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу.
Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из
колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся
к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.
Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот
барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал
отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой
сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая
часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили
свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота
была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее
отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились
арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе
руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой
казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в
казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло
в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в
приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра —
утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.
— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант,
сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом
черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом,
— постой!
— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь,
монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.
«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того
только и надо было толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде
добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим
презрением.
— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на
острожном чистяке! 1 Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.
—-
1 Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Прим. автора.)
Толстяк наконец рассердился.
— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.
— То и есть, что птица!
— Какая?
— Такая.
— Какая такая?
— Да уж одно слово такая.
— Да какая?
Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки,
как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет
драка. Для меня все это было ново, и я смотрел с любопытством. Но
впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и
разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же
никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало
нравы острога.
Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него
смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было
поддерживать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая
именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника,
стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху
вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно
произнес:
— Каган!..
То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал
находчивость арестанта.
— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался
на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.
Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.
— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.
— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за
угла.
— Да, держи, подерутся! — раздалось в ответ. — У нас народ бойкий,
задорный; семеро одного не боимся…
— Да и оба хороши! Один за фунт хлеба в острог пришел, а другой —
крыночная блудница, у бабы простоквашу поел, зато и кнута хватил.
— Ну-ну-ну! полно вам, — закричал инвалид, проживавший для порядка в
казарме и поэтому спавший в углу на особой койке.
— Вода, ребята! Невалид Петрович проснулся! Невалиду Петровичу,
родимому братцу!
— Брат… Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! — ворчал
инвалид, натягивая в рукава шинель…
Готовились к поверке; начало рассветать; в кухне набралась густая толпа
народу, не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых
шапках у хлеба, который резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались
артелью, в каждую кухню по двое. У них же сохранялся и кухонный нож для
резания хлеба и мяса, на всю кухню один.
По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в
полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми
стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и
шум был нестерпимый; но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по
углам.
— Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй! — проговорил молодой
арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта.
— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — проговорил тот, не поднимая глаз и
стараясь ужевать хлеб своими беззубыми деснами.
— А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер; право-ну.
— Нет, ты сперва помри, а я после…
Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта,
видимо стараясь друг перед другом сохранить свою важность.
— У меня небось не украдут, — говорил один, — я, брат, сам боюсь, как
бы чего не украсть.
— Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу.
— Да чего обожжешь-то! Такой же варнак; больше и названья нам нет…
она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась.
Намедни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу; у
него еще в форштадте дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида купил, вот еще
который потом удавился…
Кстати, Наталья, — незатравленная. Весьма самодостаточная Личность, как вы сумели убедиться. Она не нуждается в моей защите. Это просто моя позиция. Дело не в ней, дело в вас!
Натаха типа Валентина, успокойся, осознай свою неправоту, да и езжай с утра внучку проведать. Жизнь коротка, а ты на мерзости растрачиваешь…
Кста, дочь — ЯРОСЛАВА
Таких «бабушек» первый раз на форуме увидела, хорошо, что заочно 🙂 Которые не внучкой интересуются, а порно в духе садомазо 🙁 теперь понятно, почему ее дочь к внучке не допускает… вот и корежит, что у других все хорошо в семье…
Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские
слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ
битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».
Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью:
арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в
острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного
занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в
остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой,
сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу,
насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь
нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь
развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и
понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может
жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге,
вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел
свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся
казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой
арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в
остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому
почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую.
Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при
себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но
работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не
очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но
учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и
сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и
золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все
они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги
есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно
свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он
уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде
можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно
было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили.
Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от
преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке.
Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались
внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и — как ни прятались деньги, а
все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а
вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого
обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал
обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись
недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И
начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая
жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.
Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно
оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались
иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами
острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но
каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в
цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели
совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось
грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант,
замотавшийся и разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от
него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи
в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до
того процветало, что принимались под залог даже казенные смотровые вещи,
как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому
арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот
дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги
немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему
начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же
отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству.
Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и
угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет.
Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы
так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так
только, для очистки совести.
Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой
сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не
спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня
один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой
натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь на
каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея
меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и
быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она
довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и
потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в
острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то
особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги,
выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором
плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по
призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность,
хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то
вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в
остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того
кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким
образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что все
время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с
западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и
пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся
розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина
обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он
был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и
зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по
целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал… Благодаря этим-то
личностям вино не оскудевало в остроге.
Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но
постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не
имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш.
Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и
калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах,
арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решоных,
было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну.
Если недостанет на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть
частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как
я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в
острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне
прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже
видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под
судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там
лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали.
Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же
остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та
бросилась бежать за мной… «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!
» — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее
копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку
я долго берег у себя.
II
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются
теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в
воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались,
слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое,
однообразное, удушающее.
Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне
теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.
Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как
будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или,
лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной
в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но
скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала
останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже
довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю
неожиданность такого существования и все более и более дивился на него.
Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей
каторги; я никогда не мог примириться с нею.
Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое
отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в
остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и
в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали
на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень не многие), а по ночам
иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так
тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость
и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее,
сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на
воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам,
особенно летом; он работает на себя, работает с разумною целью, и ему
несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так
что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его
заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей
бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна
и скучна для каторжного, то сама по себе, как работа, она разумна: арестант
делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и
цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее,
спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного
ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу
земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы
через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть,
да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание
обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не
достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки,
бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной
работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно
тем, что вынужденная.
Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел
понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости
казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые
казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег,
нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день
был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог
рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой
своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть
арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам
острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если
навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты
последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать.
Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы,
в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие.
Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в
других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось
бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку,
хотя, конечно, большею частью бессознательно.
Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли,
что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь
судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную
пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную
пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство
же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не
выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы
голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и
этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных
печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка
заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня
ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на
это никакого внимания.
Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким
новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне
пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные,
кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу.
Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из
колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся
к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.
Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот
барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал
отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой
сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая
часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили
свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота
была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее
отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились
арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе
руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой
казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в
казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло
в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в
приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра —
утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.
— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант,
сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом
черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом,
— постой!
— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь,
монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.
«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того
только и надо было толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде
добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим
презрением.
— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на
острожном чистяке! 1 Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.
—-
1 Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Прим. автора.)
Толстяк наконец рассердился.
— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.
— То и есть, что птица!
— Какая?
— Такая.
— Какая такая?
— Да уж одно слово такая.
— Да какая?
Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки,
как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет
драка. Для меня все это было ново, и я смотрел с любопытством. Но
впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и
разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же
никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало
нравы острога.
Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него
смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было
поддерживать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая
именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника,
стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху
вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно
произнес:
— Каган!..
То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал
находчивость арестанта.
— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался
на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.
Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.
— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.
— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за
угла.
— Да, держи, подерутся! — раздалось в ответ. — У нас народ бойкий,
задорный; семеро одного не боимся…
— Да и оба хороши! Один за фунт хлеба в острог пришел, а другой —
крыночная блудница, у бабы простоквашу поел, зато и кнута хватил.
— Ну-ну-ну! полно вам, — закричал инвалид, проживавший для порядка в
казарме и поэтому спавший в углу на особой койке.
— Вода, ребята! Невалид Петрович проснулся! Невалиду Петровичу,
родимому братцу!
— Брат… Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! — ворчал
инвалид, натягивая в рукава шинель…
Готовились к поверке; начало рассветать; в кухне набралась густая толпа
народу, не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых
шапках у хлеба, который резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались
артелью, в каждую кухню по двое. У них же сохранялся и кухонный нож для
резания хлеба и мяса, на всю кухню один.
По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в
полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми
стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и
шум был нестерпимый; но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по
углам.
— Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй! — проговорил молодой
арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта.
— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — проговорил тот, не поднимая глаз и
стараясь ужевать хлеб своими беззубыми деснами.
— А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер; право-ну.
— Нет, ты сперва помри, а я после…
Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта,
видимо стараясь друг перед другом сохранить свою важность.
— У меня небось не украдут, — говорил один, — я, брат, сам боюсь, как
бы чего не украсть.
— Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу.
— Да чего обожжешь-то! Такой же варнак; больше и названья нам нет…
она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась.
Намедни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу; у
него еще в форштадте дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида купил, вот еще
который потом удавился…
Юля, имя дочери или внучки? Откуда инфа?
Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские
слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ
битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».
Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью:
арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в
острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного
занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в
остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой,
сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу,
насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь
нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь
развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и
понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может
жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге,
вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел
свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся
казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой
арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в
остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому
почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую.
Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при
себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но
работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не
очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но
учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и
сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и
золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все
они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги
есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно
свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он
уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде
можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно
было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили.
Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от
преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке.
Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались
внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и — как ни прятались деньги, а
все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а
вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого
обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал
обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись
недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И
начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая
жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.
Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно
оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались
иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами
острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но
каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в
цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели
совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось
грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант,
замотавшийся и разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от
него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи
в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до
того процветало, что принимались под залог даже казенные смотровые вещи,
как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому
арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот
дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги
немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему
начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же
отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству.
Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и
угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет.
Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы
так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так
только, для очистки совести.
Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой
сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не
спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня
один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой
натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь на
каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея
меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и
быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она
довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и
потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в
острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то
особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги,
выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором
плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по
призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность,
хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то
вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в
остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того
кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким
образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что все
время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с
западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и
пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся
розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина
обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он
был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и
зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по
целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал… Благодаря этим-то
личностям вино не оскудевало в остроге.
Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но
постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не
имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш.
Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и
калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах,
арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решоных,
было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну.
Если недостанет на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть
частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как
я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в
острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне
прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже
видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под
судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там
лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали.
Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же
остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та
бросилась бежать за мной… «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!
» — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее
копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку
я долго берег у себя.
II
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются
теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в
воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались,
слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое,
однообразное, удушающее.
Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне
теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.
Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как
будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или,
лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной
в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но
скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала
останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже
довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю
неожиданность такого существования и все более и более дивился на него.
Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей
каторги; я никогда не мог примириться с нею.
Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое
отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в
остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и
в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали
на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень не многие), а по ночам
иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так
тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость
и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее,
сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на
воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам,
особенно летом; он работает на себя, работает с разумною целью, и ему
несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так
что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его
заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей
бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна
и скучна для каторжного, то сама по себе, как работа, она разумна: арестант
делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и
цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее,
спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного
ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу
земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы
через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть,
да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание
обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не
достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки,
бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной
работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно
тем, что вынужденная.
Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел
понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости
казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые
казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег,
нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день
был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог
рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой
своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть
арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам
острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если
навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты
последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать.
Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы,
в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие.
Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в
других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось
бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку,
хотя, конечно, большею частью бессознательно.
Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли,
что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь
судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную
пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную
пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство
же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не
выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы
голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и
этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных
печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка
заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня
ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на
это никакого внимания.
Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким
новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне
пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные,
кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу.
Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из
колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся
к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.
Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот
барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал
отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой
сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая
часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили
свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота
была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее
отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились
арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе
руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой
казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в
казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло
в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в
приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра —
утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.
— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант,
сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом
черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом,
— постой!
— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь,
монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.
«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того
только и надо было толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде
добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим
презрением.
— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на
острожном чистяке! 1 Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.
—-
1 Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Прим. автора.)
Толстяк наконец рассердился.
— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.
— То и есть, что птица!
— Какая?
— Такая.
— Какая такая?
— Да уж одно слово такая.
— Да какая?
Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки,
как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет
драка. Для меня все это было ново, и я смотрел с любопытством. Но
впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и
разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же
никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало
нравы острога.
Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него
смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было
поддерживать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая
именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника,
стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху
вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно
произнес:
— Каган!..
То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал
находчивость арестанта.
— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался
на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.
Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.
— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.
— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за
угла.
— Да, держи, подерутся! — раздалось в ответ. — У нас народ бойкий,
задорный; семеро одного не боимся…
— Да и оба хороши! Один за фунт хлеба в острог пришел, а другой —
крыночная блудница, у бабы простоквашу поел, зато и кнута хватил.
— Ну-ну-ну! полно вам, — закричал инвалид, проживавший для порядка в
казарме и поэтому спавший в углу на особой койке.
— Вода, ребята! Невалид Петрович проснулся! Невалиду Петровичу,
родимому братцу!
— Брат… Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! — ворчал
инвалид, натягивая в рукава шинель…
Готовились к поверке; начало рассветать; в кухне набралась густая толпа
народу, не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых
шапках у хлеба, который резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались
артелью, в каждую кухню по двое. У них же сохранялся и кухонный нож для
резания хлеба и мяса, на всю кухню один.
По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в
полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми
стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и
шум был нестерпимый; но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по
углам.
— Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй! — проговорил молодой
арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта.
— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — проговорил тот, не поднимая глаз и
стараясь ужевать хлеб своими беззубыми деснами.
— А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер; право-ну.
— Нет, ты сперва помри, а я после…
Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта,
видимо стараясь друг перед другом сохранить свою важность.
— У меня небось не украдут, — говорил один, — я, брат, сам боюсь, как
бы чего не украсть.
— Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу.
— Да чего обожжешь-то! Такой же варнак; больше и названья нам нет…
она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась.
Намедни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу; у
него еще в форштадте дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида купил, вот еще
который потом удавился…
Юля, копируйте срочно!
Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские
слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ
битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».
Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью:
арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в
острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного
занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в
остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой,
сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу,
насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь
нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь
развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и
понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может
жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге,
вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел
свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся
казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой
арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в
остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому
почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую.
Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при
себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но
работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не
очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но
учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и
сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и
золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все
они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги
есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно
свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он
уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде
можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно
было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили.
Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от
преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке.
Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались
внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и — как ни прятались деньги, а
все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а
вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого
обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал
обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись
недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И
начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая
жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.
Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно
оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались
иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами
острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но
каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в
цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели
совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось
грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант,
замотавшийся и разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от
него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи
в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до
того процветало, что принимались под залог даже казенные смотровые вещи,
как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому
арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот
дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги
немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему
начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же
отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству.
Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и
угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет.
Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы
так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так
только, для очистки совести.
Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой
сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не
спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня
один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой
натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь на
каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея
меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и
быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она
довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и
потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в
острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то
особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги,
выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором
плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по
призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность,
хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то
вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в
остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того
кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким
образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что все
время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с
западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и
пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся
розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина
обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он
был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и
зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по
целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал… Благодаря этим-то
личностям вино не оскудевало в остроге.
Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но
постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не
имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш.
Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и
калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах,
арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решоных,
было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну.
Если недостанет на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть
частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как
я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в
острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне
прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже
видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под
судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там
лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали.
Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же
остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та
бросилась бежать за мной… «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!
» — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее
копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку
я долго берег у себя.
II
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются
теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в
воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались,
слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое,
однообразное, удушающее.
Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне
теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.
Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как
будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или,
лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной
в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но
скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала
останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже
довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю
неожиданность такого существования и все более и более дивился на него.
Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей
каторги; я никогда не мог примириться с нею.
Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое
отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в
остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и
в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали
на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень не многие), а по ночам
иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так
тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость
и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее,
сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на
воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам,
особенно летом; он работает на себя, работает с разумною целью, и ему
несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так
что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его
заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей
бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна
и скучна для каторжного, то сама по себе, как работа, она разумна: арестант
делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и
цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее,
спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного
ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу
земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы
через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть,
да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание
обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не
достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки,
бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной
работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно
тем, что вынужденная.
Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел
понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости
казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые
казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег,
нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день
был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог
рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой
своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть
арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам
острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если
навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты
последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать.
Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы,
в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие.
Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в
других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось
бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку,
хотя, конечно, большею частью бессознательно.
Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли,
что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь
судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную
пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную
пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство
же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не
выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы
голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и
этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных
печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка
заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня
ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на
это никакого внимания.
Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким
новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне
пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные,
кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу.
Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из
колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся
к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.
Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот
барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал
отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой
сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая
часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили
свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота
была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее
отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились
арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе
руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой
казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в
казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло
в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в
приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра —
утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.
— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант,
сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом
черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом,
— постой!
— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь,
монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.
«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того
только и надо было толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде
добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим
презрением.
— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на
острожном чистяке! 1 Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.
—-
1 Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Прим. автора.)
Толстяк наконец рассердился.
— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.
— То и есть, что птица!
— Какая?
— Такая.
— Какая такая?
— Да уж одно слово такая.
— Да какая?
Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки,
как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет
драка. Для меня все это было ново, и я смотрел с любопытством. Но
впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и
разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же
никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало
нравы острога.
Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него
смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было
поддерживать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая
именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника,
стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху
вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно
произнес:
— Каган!..
То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал
находчивость арестанта.
— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался
на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.
Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.
— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.
— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за
угла.
— Да, держи, подерутся! — раздалось в ответ. — У нас народ бойкий,
задорный; семеро одного не боимся…
— Да и оба хороши! Один за фунт хлеба в острог пришел, а другой —
крыночная блудница, у бабы простоквашу поел, зато и кнута хватил.
— Ну-ну-ну! полно вам, — закричал инвалид, проживавший для порядка в
казарме и поэтому спавший в углу на особой койке.
— Вода, ребята! Невалид Петрович проснулся! Невалиду Петровичу,
родимому братцу!
— Брат… Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! — ворчал
инвалид, натягивая в рукава шинель…
Готовились к поверке; начало рассветать; в кухне набралась густая толпа
народу, не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых
шапках у хлеба, который резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались
артелью, в каждую кухню по двое. У них же сохранялся и кухонный нож для
резания хлеба и мяса, на всю кухню один.
По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в
полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми
стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и
шум был нестерпимый; но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по
углам.
— Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй! — проговорил молодой
арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта.
— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — проговорил тот, не поднимая глаз и
стараясь ужевать хлеб своими беззубыми деснами.
— А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер; право-ну.
— Нет, ты сперва помри, а я после…
Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта,
видимо стараясь друг перед другом сохранить свою важность.
— У меня небось не украдут, — говорил один, — я, брат, сам боюсь, как
бы чего не украсть.
— Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу.
— Да чего обожжешь-то! Такой же варнак; больше и названья нам нет…
она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась.
Намедни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу; у
него еще в форштадте дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида купил, вот еще
который потом удавился…
В защите не нуждается, а поддержу всегда, пока не прекратится этот поток выдумок и наговоров. Анна, Вы отвечаете за свои слова?
Ну что же. Раз уж вы, бабьё, решили убить этот форум, поможем вам в этом грязном деле. Совместим приятное с полезным. А то вы, чего доброго, точки с запятыми станете высчитывать поимённо, постранично, погодично — тоже интересной занятие для круглых дур.
Начнём, пожалуй, с классики.
Просвещайтесь, безмозглые дуры, если нечем заняться. Начнём выкладывать сюда простыни «Войны и мира» к примеру. Как раз в тему.
*занятие для круглых дур*, *Просвещайтесь, безмозглые дуры, если нечем заняться*
ПРИВЕЕЕТ!!
Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские
слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ
битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».
Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью:
арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в
острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного
занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в
остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой,
сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу,
насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь
нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь
развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и
понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может
жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге,
вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел
свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся
казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой
арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в
остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому
почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую.
Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при
себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но
работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не
очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но
учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и
сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и
золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все
они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги
есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно
свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он
уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде
можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно
было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили.
Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от
преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке.
Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались
внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и — как ни прятались деньги, а
все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а
вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого
обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал
обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись
недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И
начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая
жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.
Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно
оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались
иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами
острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но
каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в
цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели
совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось
грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант,
замотавшийся и разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от
него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи
в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до
того процветало, что принимались под залог даже казенные смотровые вещи,
как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому
арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот
дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги
немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему
начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же
отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству.
Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и
угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет.
Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы
так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так
только, для очистки совести.
Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой
сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не
спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня
один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой
натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь на
каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея
меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и
быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она
довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и
потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в
острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то
особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги,
выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором
плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по
призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность,
хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то
вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в
остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того
кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким
образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что все
время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с
западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и
пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся
розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина
обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он
был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и
зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по
целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал… Благодаря этим-то
личностям вино не оскудевало в остроге.
Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но
постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не
имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш.
Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и
калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах,
арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решоных,
было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну.
Если недостанет на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть
частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как
я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в
острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне
прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже
видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под
судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там
лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали.
Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же
остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та
бросилась бежать за мной… «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!
» — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее
копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку
я долго берег у себя.
II
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются
теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в
воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались,
слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое,
однообразное, удушающее.
Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне
теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.
Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как
будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или,
лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной
в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но
скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала
останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже
довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю
неожиданность такого существования и все более и более дивился на него.
Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей
каторги; я никогда не мог примириться с нею.
Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое
отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в
остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и
в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали
на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень не многие), а по ночам
иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так
тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость
и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее,
сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на
воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам,
особенно летом; он работает на себя, работает с разумною целью, и ему
несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так
что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его
заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей
бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна
и скучна для каторжного, то сама по себе, как работа, она разумна: арестант
делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и
цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее,
спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного
ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу
земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы
через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть,
да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание
обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не
достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки,
бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной
работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно
тем, что вынужденная.
Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел
понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости
казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые
казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег,
нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день
был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог
рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой
своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть
арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам
острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если
навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты
последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать.
Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы,
в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие.
Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в
других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось
бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку,
хотя, конечно, большею частью бессознательно.
Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли,
что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь
судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную
пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную
пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство
же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не
выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы
голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и
этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных
печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка
заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня
ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на
это никакого внимания.
Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким
новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне
пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные,
кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу.
Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из
колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся
к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.
Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот
барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал
отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой
сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая
часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили
свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота
была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее
отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились
арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе
руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой
казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в
казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло
в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в
приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра —
утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.
— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант,
сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом
черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом,
— постой!
— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь,
монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.
«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того
только и надо было толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде
добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим
презрением.
— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на
острожном чистяке! 1 Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.
—-
1 Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Прим. автора.)
Толстяк наконец рассердился.
— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.
— То и есть, что птица!
— Какая?
— Такая.
— Какая такая?
— Да уж одно слово такая.
— Да какая?
Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки,
как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет
драка. Для меня все это было ново, и я смотрел с любопытством. Но
впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и
разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же
никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало
нравы острога.
Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него
смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было
поддерживать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая
именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника,
стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху
вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно
произнес:
— Каган!..
То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал
находчивость арестанта.
— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался
на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.
Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.
— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.
— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за
угла.
— Да, держи, подерутся! — раздалось в ответ. — У нас народ бойкий,
задорный; семеро одного не боимся…
— Да и оба хороши! Один за фунт хлеба в острог пришел, а другой —
крыночная блудница, у бабы простоквашу поел, зато и кнута хватил.
— Ну-ну-ну! полно вам, — закричал инвалид, проживавший для порядка в
казарме и поэтому спавший в углу на особой койке.
— Вода, ребята! Невалид Петрович проснулся! Невалиду Петровичу,
родимому братцу!
— Брат… Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! — ворчал
инвалид, натягивая в рукава шинель…
Готовились к поверке; начало рассветать; в кухне набралась густая толпа
народу, не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых
шапках у хлеба, который резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались
артелью, в каждую кухню по двое. У них же сохранялся и кухонный нож для
резания хлеба и мяса, на всю кухню один.
По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в
полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми
стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и
шум был нестерпимый; но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по
углам.
— Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй! — проговорил молодой
арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта.
— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — проговорил тот, не поднимая глаз и
стараясь ужевать хлеб своими беззубыми деснами.
— А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер; право-ну.
— Нет, ты сперва помри, а я после…
Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта,
видимо стараясь друг перед другом сохранить свою важность.
— У меня небось не украдут, — говорил один, — я, брат, сам боюсь, как
бы чего не украсть.
— Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу.
— Да чего обожжешь-то! Такой же варнак; больше и названья нам нет…
она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась.
Намедни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу; у
него еще в форштадте дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида купил, вот еще
который потом удавился…
О простынках. Ваше?
Дафна:
12.05.2019 в 11:25
Оценка комментария: Thumb up Thumb down +1
Тут глазам их открылось не то тридцать, не то сорок ветряных мельниц, стоявших среди поля………..
Бабос что-то разумное один раз ляпнул, чтойто про одноклеточное… Сгонять?
ДОСТОЕВСКИЙ Ф.М. ЗАПИСКИ ИЗ МЁРТВОГО ДОМА
МЕРТВЫЙ ДОМ
Острог наш стоял на краю крепости, у самого крепостного вала.
Случалось, посмотришь сквозь щели забора на свет божий: не увидишь ли хоть
чего-нибудь? — и только и увидишь, что краешек неба да высокий земляной вал,
поросший бурьяном, а взад и вперед по валу, день и ночь, расхаживают
часовые; и тут же подумаешь, что пройдут целые годы, а ты точно так же
подойдешь смотреть сквозь щели забора и увидишь тот же вал, таких же часовых
и тот же маленький краешек неба, не того неба, которое над острогом, а
другого, далекого, вольного неба. Представьте себе большой двор, шагов в
двести длины и шагов в полтораста ширины, весь обнесенный кругом, в виде
неправильного шестиугольника, высоким тыном, то есть забором из высоких
столбов (паль), врытых стойком глубоко в землю, крепко прислоненных друг к
другу ребрами, скрепленных поперечными планками и сверху заостренных: вот
наружная ограда острога. В одной из сторон ограды вделаны крепкие ворота,
всегда запертые, всегда день и ночь охраняемые часовыми; их отпирали по
требованию, для выпуска на работу. За этими воротами был светлый, вольный
мир, жили люди, как и все. Но по сю сторону ограды о том мире представляли
себе, как о какой-то несбыточной сказке. Тут был свой особый мир, ни на что
не похожий, тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи,
и заживо мертвый дом , жизнь — как нигде, и люди особенные. Вот этот-то
особенный уголок я и принимаюсь описывать.
Как входите в ограду — видите внутри ее несколько зданий. По обеим
сторонам широкого внутреннего двора тянутся два длинных одноэтажных сруба.
Это казармы. Здесь живут арестанты, размещенные по разрядам. Потом, в
глубине ограды, еще такой же сруб: это кухня, разделенная на две артели;
далее еще строение, где под одной крышей помещаются погреба, амбары, сараи.
Средина двора пустая и составляет ровную, довольно большую площадку. Здесь
строятся арестанты, происходит поверка и перекличка утром, в полдень и
вечером, иногда же и еще по нескольку раз в день, — судя по мнительности
караульных и их уменью скоро считать. Кругом, между строениями и забором,
остается, еще довольно большое пространство. Здесь, по задам строений, иные
из заключенных, понелюдимее и помрачнее характером, любят ходить в нерабочее
время, закрытые от всех глаз, и думать свою думушку. Встречаясь с ними во
время этих прогулок, я любил всматриваться в их угрюмые, клейменые лица и
угадывать, о чем они думают. Был один ссыльный, у которого любимым занятием
в свободное время, было считать пали. Их было тысячи полторы, и у него они
были все на счету и на примете. Каждая паля означала у него день; каждый
день он отсчитывал по одной пале и таким образом по оставшемуся числу
несосчитанных паль мог наглядно видеть, сколько дней еще остается ему
пробыть в остроге до срока работы. Он был искренно рад, когда доканчивал
какую-нибудь сторону шестиугольника. Много лет приходилось еще ему
дожидаться; но в остроге было время научиться терпению. Я видел раз, как
прощался с товарищами один арестант, пробывший в каторге двадцать лет и
наконец выходивший на волю. Были люди, помнившие, как он вошел в острог
первый раз, молодой, беззаботный, не думавший ни о своем преступлении, ни о
своем наказании. Он выходил седым стариком, с лицом угрюмым и грустным.
Молча обошел он все наши шесть казарм. Входя в каждую казарму, он молился на
образа и потом низко, в пояс, откланивался товарищам, прося не поминать его
лихом. Помню я тоже, как однажды одного арестанта, прежде зажиточного
сибирского мужика, раз под вечер позвали к воротам. Полгода перед этим
получил он известие, что бывшая его жена вышла замуж, и крепко запечалился.
Теперь она сама подъехала к острогу, вызвала его и подала ему подаяние. Они
поговорили минуты две, оба всплакнули и простились навеки. Я видел его лицо,
когда он возвращался в казарму… Да, в этом месте можно было научиться
терпению.
Дафна, у всех книги классиков в доме есть.., зря стараешься… или это от безысходки, последние конвульсии…
Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские
слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ
битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».
Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью:
арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в
острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного
занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в
остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой,
сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу,
насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь
нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь
развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и
понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может
жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге,
вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел
свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся
казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой
арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в
остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому
почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую.
Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при
себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но
работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не
очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но
учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и
сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и
золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все
они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги
есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно
свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он
уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде
можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно
было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили.
Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от
преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке.
Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались
внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и — как ни прятались деньги, а
все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а
вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого
обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал
обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись
недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И
начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая
жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.
Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно
оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались
иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами
острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но
каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в
цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели
совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось
грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант,
замотавшийся и разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от
него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи
в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до
того процветало, что принимались под залог даже казенные смотровые вещи,
как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому
арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот
дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги
немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему
начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же
отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству.
Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и
угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет.
Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы
так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так
только, для очистки совести.
Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой
сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не
спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня
один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой
натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь на
каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея
меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и
быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она
довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и
потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в
острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то
особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги,
выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором
плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по
призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность,
хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то
вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в
остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того
кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким
образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что все
время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с
западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и
пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся
розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина
обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он
был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и
зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по
целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал… Благодаря этим-то
личностям вино не оскудевало в остроге.
Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но
постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не
имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш.
Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и
калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах,
арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решоных,
было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну.
Если недостанет на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть
частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как
я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в
острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне
прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже
видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под
судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там
лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали.
Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же
остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та
бросилась бежать за мной… «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!
» — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее
копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку
я долго берег у себя.
II
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются
теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в
воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались,
слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое,
однообразное, удушающее.
Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне
теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.
Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как
будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или,
лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной
в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но
скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала
останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже
довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю
неожиданность такого существования и все более и более дивился на него.
Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей
каторги; я никогда не мог примириться с нею.
Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое
отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в
остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и
в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали
на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень не многие), а по ночам
иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так
тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость
и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее,
сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на
воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам,
особенно летом; он работает на себя, работает с разумною целью, и ему
несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так
что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его
заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей
бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна
и скучна для каторжного, то сама по себе, как работа, она разумна: арестант
делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и
цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее,
спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного
ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу
земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы
через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть,
да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание
обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не
достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки,
бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной
работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно
тем, что вынужденная.
Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел
понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости
казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые
казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег,
нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день
был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог
рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой
своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть
арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам
острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если
навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты
последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать.
Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы,
в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие.
Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в
других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось
бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку,
хотя, конечно, большею частью бессознательно.
Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли,
что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь
судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную
пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную
пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство
же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не
выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы
голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и
этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных
печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка
заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня
ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на
это никакого внимания.
Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким
новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне
пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные,
кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу.
Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из
колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся
к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.
Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот
барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал
отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой
сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая
часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили
свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота
была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее
отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились
арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе
руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой
казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в
казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло
в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в
приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра —
утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.
— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант,
сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом
черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом,
— постой!
— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь,
монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.
«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того
только и надо было толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде
добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим
презрением.
— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на
острожном чистяке! 1 Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.
—-
1 Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Прим. автора.)
Толстяк наконец рассердился.
— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.
— То и есть, что птица!
— Какая?
— Такая.
— Какая такая?
— Да уж одно слово такая.
— Да какая?
Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки,
как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет
драка. Для меня все это было ново, и я смотрел с любопытством. Но
впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и
разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же
никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало
нравы острога.
Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него
смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было
поддерживать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая
именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника,
стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху
вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно
произнес:
— Каган!..
То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал
находчивость арестанта.
— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался
на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.
Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.
— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.
— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за
угла.
— Да, держи, подерутся! — раздалось в ответ. — У нас народ бойкий,
задорный; семеро одного не боимся…
— Да и оба хороши! Один за фунт хлеба в острог пришел, а другой —
крыночная блудница, у бабы простоквашу поел, зато и кнута хватил.
— Ну-ну-ну! полно вам, — закричал инвалид, проживавший для порядка в
казарме и поэтому спавший в углу на особой койке.
— Вода, ребята! Невалид Петрович проснулся! Невалиду Петровичу,
родимому братцу!
— Брат… Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! — ворчал
инвалид, натягивая в рукава шинель…
Готовились к поверке; начало рассветать; в кухне набралась густая толпа
народу, не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых
шапках у хлеба, который резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались
артелью, в каждую кухню по двое. У них же сохранялся и кухонный нож для
резания хлеба и мяса, на всю кухню один.
По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в
полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми
стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и
шум был нестерпимый; но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по
углам.
— Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй! — проговорил молодой
арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта.
— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — проговорил тот, не поднимая глаз и
стараясь ужевать хлеб своими беззубыми деснами.
— А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер; право-ну.
— Нет, ты сперва помри, а я после…
Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта,
видимо стараясь друг перед другом сохранить свою важность.
— У меня небось не украдут, — говорил один, — я, брат, сам боюсь, как
бы чего не украсть.
— Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу.
— Да чего обожжешь-то! Такой же варнак; больше и названья нам нет…
она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась.
Намедни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу; у
него еще в форштадте дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида купил, вот еще
который потом удавился…
Ну, дафна, конечно, не «бабье», наверное леди, тоже не похоже, судя по ее прошлым постам…. неужели мужчина??? Вот это номер!!! Дурак, но с мозгом…
Давай печатай…. только у все еще в школе «Войну и мир » читали. Где училась-то, Дафна???….. Или школьная программа для некоторых верх образованности, слаще моркови…
Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские
слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ
битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».
Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью:
арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в
острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного
занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в
остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой,
сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу,
насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь
нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь
развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и
понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может
жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге,
вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел
свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся
казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой
арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в
остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому
почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую.
Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при
себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но
работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не
очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но
учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и
сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и
золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все
они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги
есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно
свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он
уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде
можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно
было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили.
Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от
преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке.
Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались
внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и — как ни прятались деньги, а
все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а
вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого
обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал
обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись
недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И
начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая
жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.
Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно
оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались
иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами
острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но
каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в
цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели
совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось
грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант,
замотавшийся и разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от
него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи
в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до
того процветало, что принимались под залог даже казенные смотровые вещи,
как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому
арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот
дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги
немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему
начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же
отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству.
Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и
угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет.
Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы
так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так
только, для очистки совести.
Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой
сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не
спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня
один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой
натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь на
каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея
меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и
быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она
довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и
потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в
острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то
особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги,
выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором
плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по
призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность,
хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то
вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в
остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того
кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким
образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что все
время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с
западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и
пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся
розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина
обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он
был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и
зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по
целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал… Благодаря этим-то
личностям вино не оскудевало в остроге.
Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но
постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не
имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш.
Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и
калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах,
арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решоных,
было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну.
Если недостанет на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть
частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как
я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в
острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне
прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже
видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под
судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там
лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали.
Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же
остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та
бросилась бежать за мной… «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!
» — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее
копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку
я долго берег у себя.
II
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются
теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в
воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались,
слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое,
однообразное, удушающее.
Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне
теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.
Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как
будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или,
лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной
в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но
скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала
останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже
довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю
неожиданность такого существования и все более и более дивился на него.
Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей
каторги; я никогда не мог примириться с нею.
Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое
отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в
остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и
в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали
на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень не многие), а по ночам
иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так
тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость
и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее,
сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на
воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам,
особенно летом; он работает на себя, работает с разумною целью, и ему
несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так
что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его
заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей
бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна
и скучна для каторжного, то сама по себе, как работа, она разумна: арестант
делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и
цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее,
спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного
ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу
земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы
через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть,
да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание
обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не
достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки,
бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной
работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно
тем, что вынужденная.
Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел
понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости
казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые
казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег,
нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день
был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог
рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой
своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть
арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам
острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если
навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты
последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать.
Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы,
в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие.
Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в
других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось
бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку,
хотя, конечно, большею частью бессознательно.
Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли,
что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь
судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную
пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную
пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство
же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не
выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы
голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и
этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных
печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка
заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня
ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на
это никакого внимания.
Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким
новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне
пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные,
кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу.
Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из
колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся
к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.
Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот
барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал
отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой
сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая
часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили
свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота
была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее
отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились
арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе
руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой
казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в
казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло
в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в
приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра —
утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.
— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант,
сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом
черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом,
— постой!
— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь,
монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.
«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того
только и надо было толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде
добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим
презрением.
— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на
острожном чистяке! 1 Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.
—-
1 Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Прим. автора.)
Толстяк наконец рассердился.
— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.
— То и есть, что птица!
— Какая?
— Такая.
— Какая такая?
— Да уж одно слово такая.
— Да какая?
Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки,
как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет
драка. Для меня все это было ново, и я смотрел с любопытством. Но
впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и
разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же
никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало
нравы острога.
Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него
смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было
поддерживать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая
именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника,
стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху
вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно
произнес:
— Каган!..
То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал
находчивость арестанта.
— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался
на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.
Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.
— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.
— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за
угла.
— Да, держи, подерутся! — раздалось в ответ. — У нас народ бойкий,
задорный; семеро одного не боимся…
— Да и оба хороши! Один за фунт хлеба в острог пришел, а другой —
крыночная блудница, у бабы простоквашу поел, зато и кнута хватил.
— Ну-ну-ну! полно вам, — закричал инвалид, проживавший для порядка в
казарме и поэтому спавший в углу на особой койке.
— Вода, ребята! Невалид Петрович проснулся! Невалиду Петровичу,
родимому братцу!
— Брат… Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! — ворчал
инвалид, натягивая в рукава шинель…
Готовились к поверке; начало рассветать; в кухне набралась густая толпа
народу, не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых
шапках у хлеба, который резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались
артелью, в каждую кухню по двое. У них же сохранялся и кухонный нож для
резания хлеба и мяса, на всю кухню один.
По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в
полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми
стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и
шум был нестерпимый; но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по
углам.
— Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй! — проговорил молодой
арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта.
— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — проговорил тот, не поднимая глаз и
стараясь ужевать хлеб своими беззубыми деснами.
— А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер; право-ну.
— Нет, ты сперва помри, а я после…
Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта,
видимо стараясь друг перед другом сохранить свою важность.
— У меня небось не украдут, — говорил один, — я, брат, сам боюсь, как
бы чего не украсть.
— Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу.
— Да чего обожжешь-то! Такой же варнак; больше и названья нам нет…
она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась.
Намедни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу; у
него еще в форштадте дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида купил, вот еще
который потом удавился…
Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские
слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ
битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».
Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью:
арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в
острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного
занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в
остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой,
сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу,
насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь
нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь
развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и
понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может
жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге,
вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел
свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся
казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой
арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в
остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому
почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую.
Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при
себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но
работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не
очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но
учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и
сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и
золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все
они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги
есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно
свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он
уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде
можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно
было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили.
Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от
преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке.
Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались
внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и — как ни прятались деньги, а
все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а
вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого
обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал
обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись
недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И
начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая
жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.
Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно
оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались
иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами
острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но
каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в
цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели
совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось
грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант,
замотавшийся и разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от
него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи
в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до
того процветало, что принимались под залог даже казенные смотровые вещи,
как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому
арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот
дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги
немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему
начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же
отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству.
Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и
угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет.
Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы
так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так
только, для очистки совести.
Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой
сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не
спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня
один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой
натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь на
каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея
меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и
быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она
довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и
потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в
острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то
особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги,
выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором
плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по
призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность,
хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то
вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в
остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того
кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким
образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что все
время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с
западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и
пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся
розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина
обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он
был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и
зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по
целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал… Благодаря этим-то
личностям вино не оскудевало в остроге.
Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но
постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не
имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш.
Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и
калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах,
арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решоных,
было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну.
Если недостанет на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть
частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как
я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в
острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне
прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже
видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под
судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там
лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали.
Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же
остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та
бросилась бежать за мной… «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку!
» — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее
копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку
я долго берег у себя.
II
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются
теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в
воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались,
слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое,
однообразное, удушающее.
Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне
теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.
Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как
будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или,
лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной
в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но
скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала
останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже
довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю
неожиданность такого существования и все более и более дивился на него.
Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей
каторги; я никогда не мог примириться с нею.
Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое
отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в
остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и
в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали
на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень не многие), а по ночам
иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так
тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость
и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее,
сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на
воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам,
особенно летом; он работает на себя, работает с разумною целью, и ему
несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так
что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его
заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей
бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна
и скучна для каторжного, то сама по себе, как работа, она разумна: арестант
делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и
цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее,
спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного
ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу
земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы
через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть,
да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание
обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не
достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки,
бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной
работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно
тем, что вынужденная.
Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел
понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости
казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые
казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег,
нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день
был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог
рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой
своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть
арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам
острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если
навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты
последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать.
Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы,
в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие.
Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в
других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось
бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку,
хотя, конечно, большею частью бессознательно.
Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли,
что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь
судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную
пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную
пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство
же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не
выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы
голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и
этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных
печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка
заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня
ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на
это никакого внимания.
Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким
новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне
пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные,
кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу.
Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из
колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся
к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.
Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот
барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал
отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой
сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая
часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили
свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота
была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее
отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились
арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе
руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой
казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в
казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло
в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в
приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра —
утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.
— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант,
сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом
черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом,
— постой!
— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь,
монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.
«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того
только и надо было толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде
добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим
презрением.
— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на
острожном чистяке! 1 Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.
—-
1 Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Прим. автора.)
Толстяк наконец рассердился.
— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.
— То и есть, что птица!
— Какая?
— Такая.
— Какая такая?
— Да уж одно слово такая.
— Да какая?
Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки,
как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет
драка. Для меня все это было ново, и я смотрел с любопытством. Но
впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и
разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же
никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало
нравы острога.
Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него
смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было
поддерживать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая
именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника,
стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху
вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно
произнес:
— Каган!..
То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал
находчивость арестанта.
— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался
на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.
Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.
— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.
— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за
угла.
— Да, держи, подерутся! — раздалось в ответ. — У нас народ бойкий,
задорный; семеро одного не боимся…
— Да и оба хороши! Один за фунт хлеба в острог пришел, а другой —
крыночная блудница, у бабы простоквашу поел, зато и кнута хватил.
— Ну-ну-ну! полно вам, — закричал инвалид, проживавший для порядка в
казарме и поэтому спавший в углу на особой койке.
— Вода, ребята! Невалид Петрович проснулся! Невалиду Петровичу,
родимому братцу!
— Брат… Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! — ворчал
инвалид, натягивая в рукава шинель…
Готовились к поверке; начало рассветать; в кухне набралась густая толпа
народу, не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых
шапках у хлеба, который резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались
артелью, в каждую кухню по двое. У них же сохранялся и кухонный нож для
резания хлеба и мяса, на всю кухню один.
По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в
полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми
стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и
шум был нестерпимый; но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по
углам.
— Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй! — проговорил молодой
арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта.
— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — проговорил тот, не поднимая глаз и
стараясь ужевать хлеб своими беззубыми деснами.
— А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер; право-ну.
— Нет, ты сперва помри, а я после…
Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта,
видимо стараясь друг перед другом сохранить свою важность.
— У меня небось не украдут, — говорил один, — я, брат, сам боюсь, как
бы чего не украсть.
— Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу.
— Да чего обожжешь-то! Такой же варнак; больше и названья нам нет…
она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась.
Намедни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу; у
него еще в форштадте дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида купил, вот еще
который потом удавился…
Если не угомонитесь, я продолжу. Мне не трудно. Хотите вести расследование особой важности для ваших курьих мозгов, обменяйтесь личкой и ездите по ушам друг дружке. Нам зачем вас читать?
Валяй, ты Войну и мир обещала 🙂
Испугала ежа…. жги, ничего не добьешься этим… дафНЮША, бестолковая!!!
Командовать парадом… будешь явно не ты!
Извини, дорогуша, с тобой забыли посоветоваться….
Одноклеточные, оказывается, читать умеют 🙂
Еще о себе во множественном числе отзываются 🙂
Давно так не смеялась, споки, цем…
Быстро Дафна вас разогнала.
А ты многоклеточная?Что ж себя «первой» заклеймила?Мало у кого мозги так работают, что сами на себе штамп ставят.Выплывает картина:лаборатория,несколько клеток с мышами, на каждой табличка:первая, вторая, третья.Над каждой проводят лабораторные исследования.Да и правда:Милка на тебе отрабатывает условные и безусловные рефлексы.
Меня ещё кто-то плюсанул. Спасибо)))) Видимо, человек с юмором)))
Лови второй плюсик 🙂 и печеньку с полочки возьми, не стесняйся 🙂
Ну вот, хотя бы тему сменила, уже хорошо.
А чо так об@алась??? Что за истерика???….
Тему возобновим, а сейчас спать пойдем, пакеда, бабанька, оторвись здесь по полной! Спок!
А чо так об@алась??? Что за истерика???….
И они ещё ищут какой-то правды. артистки.
Валя, лучше сделай детальный разбор и анализ своих стишат, утромпомолившаяся наша……
не ваша.
Колорита в Ленке нет,
И портрет не пишется,
Жрёт печеньки на обед.
Голос Нуланд слышится.
А печение у ней
Аккуратно сложено,
Первой- Ленка у @дей,
Это как положено.
Наталья,ты что каждый свой день с ругани начинаеш?Сама от себя не устала?годами тут собачишся с людьми,которые тебе ничего плохого ни сделали!Ни стыдно?Давай перисматривай свое повидение и больше переставай писать про всех гадости!У каждого из нас найдется то чем можно его унизить.
И еще забыла:перестань такие простыни строчить,с ума можно съехать пока их пролистаеш!Лучше доброе чего нибудь напиши ради разнообразия хотя бы
У тебя на 16 строчек комментария 8 грубейших ошибок(орфографических,пунктуация пусть останется на твоей совести,хотя «нельзя казнить помиловать» ещё никто не забыл,кроме тебя).Таким образом,выражаясь литературно,речь твоя непечатна.Неужели не понимаешь, что каждый твой комментарий выдаёт слабоумие?
Просила «чего-нибудь доброе, кушай.
пехотка, каждый твой коммент, под какими бы личинами бы ты не пряталась, выдаёт в тебе особу злую ко всему Белому Свету.
и сколько бы ты не строчила здесь «простыней» объёмных текстов, дабы прикрыть ссылки на твои ядовитые прошлые комменты, тебе всегда здесь будут тыкать ими же в твой хрюндель.
Можешь дальше продолжать фантизировать со своими садо/мазо пошлятиной и можешь сама себе аплодировать, только твои нечистоты ты будешь вдыхать сама, а МЫ будем скидывать тебе твою собственную злую с пеной ссылки на твои хрю-хря.
баба ты злая от того, что холишь и лелеешь беса своего.,
и маской «православной» ты стала прикрываться именно по этой причине.
Нормальная, здравомыслящая женщина никогда не позволит оскорблять чужих детей, когда вяжет пинетки своим потомкам, запомни ты это «бабулька» как 2×2
Ты придумала себе маски, прячешь под ними своё истинное лицо, а оно большинству Людей уже давно понятно.
на форуме из Питера обитает только одна злая баба, которая решила тут поиграть и построить всех.
Не получится! Считать всех за дураков, не выйдет!
Где уж тебе понять, Наталья, что ‘грамотность’ порой, не самое главное в жизни, а вот искренность, доброе сердце, пусть и не совсем ‘грамотного’ человека гараздо важнее! Никогда не сталкивалась с этим ???? А я сталкивалась….
Когда люди(может и не очень образованные, поостые), но с добрым сердцем и простыми понятиями о милосердии и без самомнения, например, в больнице выхаживают больных, простые нянечки…
Меня такая простая очень пожилая нянечка в больнице и умыла, и подмыла после операции…, я даже оромниться не успела, отказаться, неловко было…, а она уже все сделала … потом еще посидела поговорила со мной и пошла генеральную в палатах делать, там все на ней держалось и врачи с уважением к ней относились, она там командовала, давно это было… сейчас таких мало… люди еще военного поколерия были, сейчас с самомнением, кое-как, только за деньги, не порядка, ни ухода… тебе как больше нравится????….
Случись что, тебе только простой человек с добрым сердцем и поможет(не очень грамотный возможно), несмотря на твои закидоны и самомнение…. потому, что пожалеет тебя по простоте своей и доброте!
Да, я здесь у себя ошибки увидела, … можешь поисправлять и не забудь потом кофетку взять, ага???…
Добро должно быть с кулаками. Добро суровым быть должно, чтобы летела шерсть клоками со всех, кто лезет на добро. Добро не жалость и не слабость. Добром дробят замки оков. Добро не слякоть и не святость, не отпущение грехов. Быть добрым не всегда удобно, принять не просто вывод тот, что дробно-дробно, добро-добро умел работать пулемёт, что смысл истории в конечном в добротном действии одном – спокойно вышибать коленом добру не сдавшихся добром!
Дай угадаю…, в роли «добра» ( с кулаками)…. ты ли, чо ли..????… мегаржака!!!!
Ой,невежа!Это стихотворение классика.Мне до него как до Луны.
Мне говорят,
качая головой:
«Ты подобрел бы.
Ты какой-то злой».
Я добрый был.
Недолго это было.
Меня ломала жизнь
и в зубы била.
Я жил
подобно глупому щенку.
Ударят —
вновь я подставлял щеку.
Хвост благодушья,
чтобы злей я был,
одним ударом
кто-то отрубил!
И я вам расскажу сейчас
о злости,
о злости той,
с которой ходят в гости,
и разговоры
чинные ведут,
и щипчиками
сахар в чай кладут.
Когда вы предлагаете
мне чаю,
я не скучаю —
я вас изучаю,
из блюдечка
я чай смиренно пью
и, когти пряча,
руку подаю.
И я вам расскажу еще
о злости…
Когда перед собраньем шепчут:
«Бросьте!..
Вы молодой,
и лучше вы пишите,
а в драку лезть
покамест не спешите»,-
то я не уступаю
ни черта!
Быть злым к неправде —
это доброта.
Предупреждаю вас:
я не излился.
И знайте —
я надолго разозлился.
И нету во мне
робости былой.
И —
интересно жить,
когда ты злой!
Так значит,ваша стая хором
Творит священное добро
Набрасываясь подло,сворой,
Нанизывая на перо?
Добро твоё-строчить доносы,
Выискивая компромат?
Рыть глубоко,усердно,носом,
Записывая всё подряд???
Сколько добра в жизни встретила. Так неси сама добро, а не занимайся интригами. Первый нормальный человеческий комментарий.
Галина, Ника, прекрасно написано!
Неужели и теперь не дойдет???
Лена, Ника, Хорошего Дня Вам!
Лена, как может дойти до человека, если человек сам этого не хочет.
— «Жизнь злых людей полна тревог» (c)Д.Дидро
на примере одной злой дамы, Мы это видим на форуме.
всего то требовалось контролировать свою «3дюймовую трубу», которой восторгаются её собственные маски.
Лена, мне жаль эту даму, потому, что эти игры до добра её саму точно не доведут.
Здоровье, как говорится не купишь.
…. Умора… расистку и националистку ‘Андромеду’-то не надо в лики ‘святых’ возносить… неужели не видите, что за этим ником Наталья?!…
Андромеда:
29.09.2017 в 17:47
Оценка комментария: Thumb up Thumb down -4
Зачем вы мне ответили?!Вам же ясно было сказано,что я тролль.Кто ещё посмеет ослушаться бандершу Владу?
Андромеда:
05.09.2017 в 12:03
Оценка комментария: Thumb up Thumb down +11
Никогда никому это никаким уроком не будет!Тем более если русским шлюхам опять вдруг «улыбнется» заграница.Снова поскачут оголтело и за арабами,и за неграми черномазами!
Андромеда:
05.09.2017 в 07:37
Оценка комментария: Thumb up Thumb down +21
Не хватает своих парней,надо то арабов искать,чтобы потом всем миром этих шлюх из рабства и гаремов вытаскивали,то с мартышками черномазами вместе по деревьям лазить,да на бразильских карнавалах скакать!Чего искала-того и добилась!Наркотрафик всегда должен быть наказуем!Это криминальный бизнес,который пытались «любовью» с нигером прикрыть.
О Филиппе Киркорове ‘Филипп Пидросович’ и т.д.
Неужели вы не заметили, что ‘Андромеда’ вдруг стала нарочито слова искажать?!… Ведь Наталья её специально использовала, чтоб вас на комментирование развести и о 9 мая и сейчас о грамматических ошибках…
А меня-то как подставила и использовала… Высший пилотаж…. Действительно, Вам Наталья не нужна защита… Сами великолепно справляетесь и развлекаетесь… Я и ещё несколько ников в разработке вижу… да пока промолчу… Вы задолго их ‘к бою’ подготавливаете…
И с ‘Дафной’ меня провели…. хотя у меня и зародилась мысль ещё в теме о колясочнице ‘олимпийской чемпионке’ просящей подаяние, что Дафна и Наталья одно лицо…
Вот хочу на Вас ‘разобидиться’, а не получается…. Высший пилотаж по троллингу и несомненный талант в манипулировании…
Отдельное спасибо Миле за посты:
Мила (Москва):
10.05.2019 в 22:52
Оценка комментария: Thumb up Thumb down +3
ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИЦУ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ТАТАРСТАНА АНДРОМЕДУ (ИЛЬГИЗОВНУ)!!!
ПОЗОР ПРОТИВНИКАМ ЭТОЙ АКЦИИ!!!
Мила (Москва):
10.05.2019 в 22:43
Оценка комментария: Thumb up Thumb down +1
‘ХАЛА’… ‘БАНДЕРША’…
НЕ ДОПУСТИМ НАЦИСТСКИХ ОСКОРБЛЕНИЙ!
НАЦИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!
Мила, я давно так не смеялась… Спасибо… Вам надо теперь с ‘Андромедой’ воспитательную работу провести… 🙂
Да уж, бедная, бедная Наталья…
Реально, очень жаль ее. Вместо общения с родными и друзьями — ругань в Инете, с раннего утра до поздней ночи, поддержка только от своих клонов… Тяжело человеку достается прибавка к пенсии, неприятная работа троллем быть, гадости незнакомым людям писать.
Ну, кто на что учился…
Стесняюсь спросить, а почему ты вместо общения с родными и друзьями дни и ночи проводишь в Инете?Почему притёрлась к одиозным бабам, от которых разбежались с форума все приличные люди?Ты что -вахтёр?И днём и ночью твои комменты?И слоганы у тебя подозрительные:сотрудницы говорят,сотрудница сказала-может, всё-таки сексот?Ты,дурашка,сала объелась?Кто ж меня с моим характером в тролли возьмёт!Я ж любому начальнику плешь сразу проем!Не отвяжется.
Не дождёшься: я счастливый человек,ребята от меня отдельно живут,я им не мешаю,они мне,всё как у людей. Но постоянно наезжают,дел по самое не хочу: и связать, и приготовить, и убрать, и о себе не забыть.Свечусь вся,люди дивятся, почему не старею.А потомушта счастлива,дети-золото,внучка-красотка.
Заседание продолжается????? )))))
Девушки, что имеем в сухом остатке. …)
Мнения-суждения могут быть разные, но существует неоспоримый факт — националистические оскорбления преследуются по Законам РФ. Нужны только факты таких постов на форуме. . Просто ругань даже не цитируйте…
Можно судить-рядить кто троллит по зову сердца, а кто — за деньги, не суть важно…)))))
То, что тема внезапно заспамлена приводит к пониманию, что вопрос болезненный. Мне показалось, что внезапные обострения наступали после упоминания дочери и Малахове.( а уж по нему то Наталья изгалялась — гей, фиктивный брак, погряз в долгах — и пр.низкопробщина….)
Показалось, что среагировала на фамилию Добродеева. . .. Вот основные направления. ..
Писать на форуме анонимно можно только то, что можно показать родным, друзьям, сослуживцам..и т.п.
Мои любые посты хоть кому показывайте…
Национальные Праздники, акции и их участников надо защищать, в т.ч малообразованную татарку-уборщицу. Феномен какой-то, что ее постоянное унижение по этим поводам находит ‘защитниц’..
А постоянные попытки до кого-то что-то донести — пустая трата времени. ..) ..ИМХО…
.
…. Мила, неужели Вы не поняли очевидного, что Вы клюнули на Натальину ‘Андромеду’?! … Это же шарж чистой воды… да и как же Ваша преданность европейским ценностям и сексуальным свободам?!…. не предавайте Вадика… 🙂
Я понимаю, что признание ошибок требует определенного мужества, но Вы же не до такой степени слепы… или?!….
… Мила, специально только для Вас цитата ‘Андромеды’ :
Андромеда:
30.11.2018 в 18:32
Оценка комментария: Thumb up Thumb down +17
Это уж точно!Но вот совершенно определенно под кого бы я никогда и ни при каких обстоятельствах не легла-так это Киркоров!Даже если бы он остался последним человеком на земле с яйцами!Одно слово Филип Пидросович!
Не поняла глубины мыслей…) .
Наверное, и я бы не ‘легла’, в чем прикол?
Андромеда шарж — в каком смысле? Клон?
….Мила, Вам нужно разжевать?! 🙂
‘Пидросович’, а не положенное Бедросович…
Никаких ассоциаций?! 🙂 …
Вы прикалываетесь?!… Ну конечно же клон…
И художественный образ… работа Натальи чистой воды… Ваше восприятие притупилось…
Жара действует?!…. 🙂
Аня, дорогая, но тогда… почему не Вы???… я не с сарказмом, а просто понять хочется, если в этом цирке аоьбще можно что-то понять….
Мила, Юля, ваше мнение????
Запутать, увести с темы??? Ну, нет, надо до логического завершения доводить….
Анна, простите меня великодушно, не хочу никого обидеть, но так и в Вас можно усомниться, ведь еще недавно Вы говорили совсем противоположные вещи…
Хотя(подсознательно) много ошибок в тексте отмеиила…. но это еще ни о чем не говорит…
Мила, Юля, вы очень трезвомыслящие и умные девушки, что думаете???…
Аня, про жару бабхен писала Миле, немного хамством отдает…. но Вы же не Наталья, Вы же даже ей в свое время не отвечали подобным образом на прямые оскорбления???.. Что с Вами?..
… Да, совершенно верно… почему не я?!… 🙂
А Вы заметили, что Наталья на мой коммент не среагировала?!… Уж точно не из расположенности ко мне… 🙂 … Наблюдает, как я с Вами начну полемизировать… да и открытия других ников раньше времени не хочет…
А я ещё раз хочу подчеркнуть… Наталья талантлива… ой, талантлива в манипулировании и сталкивание лбами…
Уж каким я себя разбирающимся в людях человеком не считала… а Наталью я не дооценила… Но как говорят… не можешь изменить человека, так измени своё отношение к нему…
Ника, про жару никак не задело…)
Не будем впадать в паранойю…)))
Может нас и троллят..)))
Если дотроллят..)., можно перенести некоторые обсуждения на др. ресурс. ..)
… Ника, а я к Вам, Миле и Елене тоже своё отношение изменила… тоже вас не узнавала…
Имела романтическое представление о вас, о Миле, в особенности… Вы высказали, что думаете обо мне, а я о вас…. всё квиты…
В ‘сталкивании лбами’ не слишком преуспела — против нее объединились бывшие оппоненты, около 10 чел..
В темах ее все обходят в основном. . Заминусована очень…
Ника, не отвлекаемся,…)…я вчера нашла цитату про Малахова…Но их еще штук 5 д.б.
Сюда пока кидать не буду. .
Хорошь, Мила! Согласна.
Анна, в людях всего много, меня, например, всегда хорошее доброе отношение человека подкупает, вернее обезоруживает… и еще, кто мне сделал добро, того я не должна предавать ни в каких случаях…. главное — быть не равнодушным и отстаивать свои принципы, если вас чем-то обидела и это вызвало разочарование, прошу прощения…, поспорить, обменяться мнериями люблю, если обижаю, переживаю и извиняюсь, так что не держите зла, не хотела…
…. Ника, только потому, что кто-то когда-то сделал добро— не означает, что в следующий раз он не сделает подлости… Обстоятельства бывают разные… У нас у всех есть свои принципы и границы дозволенного…
Я, как миротворец по натуре, тоже хочу сказать, чтоб Вы не держали зла на меня, да и другие тоже… Извините, если обидела…
Анна, лично я на Вас не обижалась никогда…, даже, если в чем-то наши мнения разошлись. Но все-таки мое убеждение, что на сделанное мне добро я должна ответить тем же и может больше… но я свою позицию не навязываю. И в жизни всякое бывает, уж я-то точно знаю………
… Да я тоже знаю… Так что ‘мир, дружба, жевачка’… как говорили в моем детстве 🙂 …
Анна, по первой части, моя толерантность не подразумевает, что я буду одергивать каждого ‘несогласного’….
По 2-й части… Сейчас вроде в холодке…)))
Многих останавливаю, когда ищут ‘клонов’….Доказанный только «Сударыня» — забыла поменять устройство и «Наталья» написала «Наталье»… Все остальное — предположения, ощущения… .
ТАКУЮ версию вообще-то сложновато осознать..
Та реально была на марше, пишет с акцентом. ..
…….. Зачем???? Клоны там всегда поддакивали и подхваливали…
Прикалываетесь????)))
Я, на самом деле, очень занятой человек. ..))))
В
… Мила, Вы в приведённых мной комментариях ‘Андромеды’ не видите, что это не тот человек за которого себя выдаёт?! … Я могу только развести руки… А копаться в никах я и сама не люблю… доказать действительно сложно…
Но надеюсь, мои примеры комментариев ‘Андромеды’ заставят Вас хоть задуматься… Они сами очень красноречивы…
Ну, я вчитаюсь в свободное время..
Но недавно был доказанный случай: Андромеды не было в теме. И, вдруг, выступила в защиту ‘Сударыни-Натальи’. Ника обратила внимание, что слог другой.. Когда Андромеда позже объявилась, категорически отказалась от того поста.
Но ее об этом спросили. Сама она и не стала бы ту тему читать. ..
А ‘Пидросович’ могли бы сказать 50% из здесь присутствующих. …) Это все равно, что Любовь и Добро — слова Порошенко…))))
… Мила, а Вы думаете, что она призналась бы, если Вы спросили?!… Доказательство в том, что и в старых текстах ‘Андромеды’ и в комментариях к этой программе ярко выраженный сексуальный подтекст…
Так что не сУмневайтесь… это одна и также ‘Андромеда’…
Аня, что-то сегодня не узнаю ваш ‘стиль’, сексуальный подтекст, всегда присутствующий говорит, что это один и тот же человек, был и есть…..
А вот, когда ‘семь пятниц на неделе’, то как раз подозрительно…., ну, всем пока, дела!!!…….
… Ника, ‘семь пятниц на неделе’— это камушек в мой огород? 🙂 …
А Вы на заметочку-то меня возьмите… как неблагонадежную )))) А то вдруг, Наталья, ещё одну многоходовочку замутила… ))))
Спасибо, конечно, за доверие….))))
Во все огороды сразу…, а потом, я просто Вас сегодня не узнаю… и потом, Вы же сами с поримаем отнеслись к тому, что все возможно….
Аня, я с Вами мало общалась на форуме, чтобы делать выводы, поэтому пошутила… для объективности, понимаете ?…
«Аня, что-то сегодня не узнаю ваш ‘стиль’…»
Да потому, что это не Аня. Вас разводят, дурочки.
… Дафна, не шалите…
Ника, а Вы разве не поняли, что я ни к каким огородам не принадлежу… Меня интересуют индивидуальности, а не ‘группы’ ))))… Я объективная до мозга костей…
Анна… они вас покусали, заразили бешенством. И вы туда же, пустились в расследование. Форум сошёл с ума. Пора лечить вас классикой
… 🙂 Именно Ваш отчаянный спам в этой теме в защиту Натальи, убедил меня, что Вы одно лицо… Так какие произведения нас сейчас ожидают?! С удовольствием почитаю…)))
Вы наверное пропустили, Анечка, я уже в третий раз признаюсь, что Наталья, Сударыня, Дафна и ещё пара тройка ников — всё это дело моих шаловливых ручонок.
Коли я уже призналась, то зачем вам коллективно тужить свои пустые головёнки и доказывать то, что не подлежит доказыванию?
Теперь понятно почему с самого начало я невзлюбила Дафну и часто с ней ругалась.Теперь ясно все стало:»Дафна» опять Натальей оказалась!Скока же их здесь ПРАВОСЛАВНЫХ?!И еще к Наталье:ты в моих постах ошибки не ищи,аж точное их количество считая.Я к тебе не на урок русского языка сюда пришла.Аллаху слава,у меня была другая училка.А то б от такой Натальи после уроков я б в живых не осталась бы,да и другие дитишки тоже
Если вы, Андромеда, и ругались со мной, то в одностороннем порядке. Не припоминаю, чтобы я на вас натыкалась в какой-либо теме. Разве что однажды в теме про пенсию назвалась вас старой пердуньей. А может и не вас. Настаивать не буду.
«назвала», конечно же. А слово «детишки» пишем через Е.
Ладно свистеть о Дафне-тут железная доказуха выложена, что я-это ты.Училась она!» Я тебя родила, я тебя и убью»,-как говорил Тарас Бульба своему клону.
Анна, Вас преполняет такая гордость, будто Вы нашли альтернативное доказательство теоремы Ферма 🙂
Про то, что Андромеда — тролль, писала я и Влада несколько раз, ничего нового. Ну, может шутит так человек, расслабляется — мне до лампады 🙂 может, и нет — знакомая медсестра мне с чудовищными ошибками шлет сообщения, еще похлеще (в голову не приходило ее поправлять).
Пусть человек развлекается рассказами о соей сексуальной раскрепощенности — посмеялись и забыли. Но нацистские высказывания, оскорбления детей и родных — это другое.
Про многониковость тоже ничего нового — клоны все прибывают 🙂
Кстати, не Марго ли это шалит (шутка)? Помнится, несколько лет назад она была то матерью 10 детей, потом вроде не она это писала, потом она писала, но имела в виду воспитанников 🙂 Если бы она провернула такую штуку — тогда да, манипуляция высшего класса! А истерика одинокой женщины, которую и к внучке не допускают, вызывает только жалость…
… Да нет, Елена… в том, что ‘Андромеда’ тролль мало у кого есть сомнение (кроме Милы, конечно), а вот то, что это Наталья, до меня самой только в этой теме дошло…
Мила повелась на ‘Андромеду’, как я на Дафну/Наталью с открытым сердцем…. а когда я осознала что к чему… неприятный осадочек остался…. Но это я сама виновата, что повилась… Вот и Миле хочу глаза раскрыть…
Смотрю, комедия всё продолжается…
Дафна с Андромедой уже отметились… И Андромеда дипломатично обошла вопрос о ее расизме и национализме… )))
Так, ну, все, Натаха, хватит!
Нет у Ардро никаких вышеперечисленных качеств! Не переводи стрелки!!!
ЗНАЙ, МЫ ВСЕ РАВНО СОСТАВИМ ПИСЬМО С ЫИТАТАМИ И ССЫЛКАМИ НА ТВОИ ПОСТЫ И РАЗОШЛЕМ, КУДА СЛЕДУЕТ…
И ЕЩЕ, КОМУ ОБЕЩАЛИ, ТОЖЕ ПОШЛЕМ, МОЖЕШЬ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ!
ТВОЙ НАЦИОНАЛИЗМ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ФАКТАМИ БУДЕТ ОЦЕНЕН, МОЖЕШЬ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ!!!
Анна, да тут и Сима была (не знаю, застали Вы или нет), явный тролль. Все о клизмах и кружках Эсмарха в каждом посте 🙂 Никого не раздражала, некоторые потом по ней скучали 🙂
Мне фиолетово, нападает ли Андромеда на Пидросовича, ругая негров одной теме и восхищаясь «достоинством» экс-мужа Понаровской в другой.
А подло использовать откровенность человека, травить потом месяцами — мерзко…
Пусть руководство канала разберется с этим, приемлимо для федерального канала такое скотство или нет.
Ну да… Руководству канала больше делать нечего, кроме как дрочить вместе с вами.
Тогда что ты забеспокоилась.., иди , пиши по теме, мы разберемся кому и куда….
Никакого беспокойства! Наоборот, я помогаю вам.
Не хватает компромата, ловите: Наши педрилы прошли по красной дорожке на Евровидении.
…. Елена, а как же так можно… на расистские и националистические оскорбления глаза закрывать, причём, на те, о которых в вышестоящие организации донос хотите сделать?!… Как-то нелогично…
Донос??? Знакомое словечко, знаково, что употребили… в свете нынешних симпатий 🙂
… Что же Вы, Елена, так ‘за соломинку’ схватились?!… Доносы это по Вашей части…
А я всегда все прямо говорю… а не за спиной сплетничаю, как Вы… я заметила, как Вы меня в беседах с другими упоминали, нагнетая атмосферу… это много говорит о Вас, как о человеке… интриганке… уж извините…
Анна, а Вы — Имя Божие, которое всуе упоминать нельзя?
Упоминала, т.к. удивил Ваш мазохизм, извините уж 🙂
… Елена… а Вы думаете это легко идти против мнения большинства, подвергаясь травле?!…
Приятного мало… Именно за это я и извинилась перед Натальей… и ни за что более… Простить— не значит забыть… так о каком мазохизме Вы говорите?!…
Кстати, очень хочется понять, что такое «прямо говорю» и «за спиной сплетничать» на открытом форуме??? 🙂
Все опубликовано, открыто, под моим ником, а не под никами Вашей компашки.
Когнитивный диссонанс? 🙂
… Это, когда человек высказывается прямым текстом, с кем разборки…. а не с третьими лицами о нем высказывается… Анна, вы то-то и то-то… как Вы сейчас делаете… Я, например, к Наталье прямым текстом обращаюсь…
Ну и зачем Вы вставили ‘вашей компашки’?!…
Опять нагнетаете?!… Ну зачем Вам это?!…
Вас там не было, поэтому и поинтересовалась — увидите, ответите, если надо.
С натальей, сколько бы она не писала под моими постами (на мовi или на русском), никаких разговоров или ответов быть не может, пока Галина не простит ее отвратительное поведение.
… Так Вы ставите меня на ровне с Натальей?!…
Спасибо)))… Обратились бы прямой речью, то ответила бы… так ведь это же было не только в этой теме… К тому же, Вы же написали ‘Прощай, Анна!’… это как ‘я больше с тобой не разговариваю’…. да ещё и на ‘ты’… не играй в мои игрушки, что называется…))) … Так зачем мне было напрашиваться… сами посудите…
Анна, Вы себя САМИ поставили на один уровень с Натальей тогда, даже ниже,когда вздумали извиняться и благодарить за науку!
Я ТРИ! раза пыталась начать с чистого листа, забыть оскорбления В СВОЙ АДРЕС, но никому не писала про стаю, затравившую и пр. Вы увидите разницу наконец-то?
Елена, Анна, у вас какая-то кармическая связь, что-то в прошлой жизни не дорешали…
Анна, а почему ‘донос’?
Если бы вы увидели переговоры террористов?
педофилов? воров? — никуда не сообщили бы?
В Европе ваша соседка в полицию позвонит, если вы мусор не в тот контейнер выбросите…
Где грань???
Отвратительные оскорбительные высказывания почему не попытаться пресечь????
Вам одной, почему-то понравились ее помои, но других вы зачем подставляете, давая карт-бланш этой матерщиннице????
Меня, кстати, ее писанина в свой адрес 1.5 года вообще никак не беспокоит…
Хочу людям помочь…
Даже если над человеком просто будет висеть дамоклов меч, что дочь когда-то может прочесть ее порнографию, уже аккуратнее будет выражаться. …))))
Не зря она в Дафну перешла. ..))))
… Елена, что значит ‘вздумали’?… Я, что, ещё у Вас и разрешение должна попросить?!….
Как посчитала нужным— так и поступила… в соответствии со своими убеждениями…
Ваше право иметь на это свою точку зрения, а у меня она другая… Донесла я Вам свою мысль?!))
… Пойду ребёнка уложу и потом отвечу Вам, Мила…
Анна, Вы уже перекручивать начинаете написанное.
Извините, что и я у Вас разрешения не спросила, жаловаться на скотство и матерщину, ОК? 🙂
Анна, я с вами.
… Мила, употребила слово ‘донос’, чтоб выразить моё негативное отношение… но по сути-то это и есть донос, т.е. информирование властей о ‘преступлении’… По моему глубокому убеждению, если человек выходит на просторы инета, то он должен быть готов услышать не только похвалу, но и критику и ругань… инет— это как и реальная жизнь… там есть всё…
Наталья хороший психолог и бъет по больному…
Некоторые ее высказывания совершенно жестоки… Если Вы на улице встретите человека выкрикивающего ругательства в сторону проходящих, то ведь наверняка просто перейдёте на другую сторону улицы, а не будете ему что-то доказывать… Ну ясно же, что у человека проблемы… Игноритьте и не принимайте близко к сердцу…. или тогда не участвуйте в форумах… Ведь эти ругательства везде… Посмотрите на ютьюбе и других сайтах… Если где-то кого-то банят, то это кому-то должно быть нужно.. На этом форуме— явно никому… припомню только один случай давно-давно по политическим высказываниям в адрес России… и то не знаю надолго ли… Так что мы здесь только создаём ‘количество’ комментариев… Вы же знаете, что здесь есть модератор… и она читает комментарии…
Доносительство же не в моей природе… ну а Вы, конечно, поступайте как считаете нужным…
Только дочку трогать, я считаю, не надо…. не хорошо это… не хорошо!!!
Если кто-то на матерщинников, оскорбляющих людей на улицах, проходит мимо — все ясно, но это не в привычках других людей. Да пусть оскорбляют, пусть Праздник 9 Мая оскорбят и ветеранов — мы мимо пройдем, тьху…
Опять про дочку, типа нехорошо…
А когда «поэтесса» дочь Галины оскорбляла, все в порядке было?!
… Елена, да разве я Вам запрещаю?! 🙂 Поступайте, как считаете нужным… но будьте последовательны… тогда и других за расизм и национализм нужно отсюда попросить… а если банить ещё и за любые оскорбления чести и достоинства, то здесь мало кто останется… 🙂 А как же рейтинги?!…. Да и как же свобода слова?! Там очень тонкая грань….и кто будет судьёй?!… Мы всегда найдём на что оскорбиться… было бы желание..
… Елена, Вы так прямо и бросаетесь на всех? Вот не верю… жизней не хватит… Нужно уметь отсеивать реальную угрозу и тявканье… Иначе всю свою жизнь в разборках провести можно…
… Марго, извините, не сразу разглядела Вас…
А у нас тут всё по-прежнему… ‘общаемся’ 🙂 …
Лично я не реагировала на оскорбления в свой адрес, с конца 2017 г.
Но безнаказанность порождает…
К тому же, имеются в виду только оскорбления националистические, а не по поводу платьишек Цымбалюк и пр.
И в чем такая проблема с дочерью??? Я все свои посты могу показать родным, друзьям или знакомым. Гадости писать не надо, все просто.
Ощущение, что деточка впервые на форум зашла и типа не в курсе, кто тут целый год доносами размахивал, всех форумчан мордой об стол возил и её саму зело прикладывал.
Ишь ты, посмели возмутиться! Зяяялкооо!
Лабуду какую-то развела ни о чём.
Вы бы в своё время Натахе так отвечали.
Она бы сразу вмазала по вашей истории и новую придумала.
А тут, конечно, можно лукаво подхамливать интеллегентнейшим Нике, Миле, Лене.
Тьфу.
… Елена, а вот подленько это как-то дочь вмешивать… Не зря же мудрость говорит ‘дети за родителей не отвечают’… Мы же не знаем их отношений… Семьи, дети— это святое… Если Наталья их затрагивает, то это совсем не означает, что и мы по больному бить должны…
Ведь несколько человек уже отметило, что она от дочки отводит…
Через И, конечно! (Фууух, успела…)
Анна, где Ваша «тонкая душевная организация» была, когда Н. оскорбляла дочь Галины, еще раз спрошу???
Кстати, я считаю и настаиваю, что ВО БЛАГО донести до дочери душевное состояние матери. Может, Наталья нуждается в лечении (или деньгах?), поэтому такое поведение. Карьеру запросто дочери может испортить подобными выходками, т.ч.не проходите мимо, как обычно поступаете…
Юлечка, доброй ночи! 🙂
Увлеклась я безнадежным делом, даже не поздоровалась…
… 🙂 Да я это всё уже Наталье писала… например, когда за Галининых детей заступалась… а в свой адрес я на подобное не реагирую… ‘Лукаво подхамливать интеллигентнейшим’?! Это что-то новое… В теме от 19/4 этой интеллигентности не особо наблюдалось… да и сегодня от Елены…
Хорошо, что Вы себя туда не записали… это правильно 🙂 …
… Елена, вот видите… Вы же сами понимаете, что карьеру дочке можно испортить, а возможно, и отношения с матерью… Вы же сами Наталью считаете ‘одинокой’ и т.д.. значит, по-Вашему получится, что Вы Наталью последнего хорошего в ее жизни лишить хотите… это не есть хорошо… Неудобно мне всё это писать Наталья перед Вами… заранее извиняюсь…
Лена, приветствую!!!!
Я вот ещё о чем. Копирование больших кусков текста — баян ботов. Раньше только бабоска этим посмердывало. А теперь весь форум унавожен. Пойду погуглю об уникальной выделительной системе Cladocera, ракообразных или водяных блох. Заодно и про Хлою освежу память.
Анна, так я мать-Наталью хочу спасти от сумасшествия, не прохожу мимо, в отличие от Вас…
… Елена, так в том-то и дело, что там не сумашествие, а особенности личности… а кто знает, может ещё и работа по раскрутке (не верю, но всё же допускаю)…
Если бы я проходила мимо и была бы к ней равнодушна, то не вступилась бы здесь за неё и не выслушивала бы всё это от Вашей группы поддержки)))… Но у меня отличная от Вашей тактика…
Кстати, Андромеда славит Аллаха, как и я. Тоже повод к размышлизмам. Думайте, дурочки. ДумайТЕ.
Беббельса чтишь?Конечно,ведь это он сказал:»Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё веришь».Кто же меня не допускает до внучки?Порой и не хочу, а везут. Вот тебя до дочки точно не допускают.
Я вообще не поняла в чем меня обвиняет Анна,да мне и все равно.Доказывать никому ничего не хочу и ни буду,к тому ж это и бисполезно.Даже Наталья уже надоела и неинтересна.К тому же Милина добро на нее все равно не действует.Всем остальным МИРА ЛЮБВИ И ДОБРА!
Андромеда, дорогая! Желая другому ДОБРА, вы получаете его обратно… Известная защитная фраза, используйте ее в своей жизни…
И отвечать легко — просмотрел по диагонали, не погружаясь в омерзительную грязь, послал хорошие слова и легко на душе…)))
Эх, Наталья, Наталья!
Загадила и испохабила ты весь форум, вонючка ты лысая!
Почему лысая?У кого что болит. тот о том и говорит???
Ну , значит, просто — вонючка!
Мила, Юля, Ника, Галя и др. адекватные форумчанки! Предлагаю послать то, что есть, надоел тупой троллинг. По реакции руководства передачи и канала все станет ясно 🙂
Надоело бабке прибавку к пенсии обеспечивать количеством комментов 🙂
Лена, поддерживаю, давайте работать в этом направлении… как вчера решили, я вот думаю, может мне почту свою скинуть для личного общения….
Ника, местные тролли закидают мерзостью Вашу почту.
Откройте нейтральную, плиз. Там договоримся.
Хорошо, в теме Цывиной скину.
Щаз обвинят злые люди, что брошена, покинута и пр. 🙁
… Елена, так Вы себя сама злым человеком считаете?! Это же Вы сами написали:
Елена (первая):
13.05.2019 в 13:55
Оценка комментария: Thumb up Thumb down +6
Да уж, бедная, бедная Наталья…
Реально, очень жаль ее. Вместо общения с родными и друзьями — ругань в Инете, с раннего утра до поздней ночи, поддержка только от своих клонов… Тяжело человеку достается прибавка к пенсии, неприятная работа троллем быть, гадости незнакомым людям писать.
Ну, кто на что учился…
Зло где??? Жалею сирых и убогих, как подобает христианке… (Валентина «Православная» Вам объяснит)…
… Так Вы же сами написали ‘Щаз обвинят злые люди, что брошена, покинута и т.д’….
Вы не от доброго сердца ‘жалеете’ и всё это перечисляете, а от желания зацепить Наталью побольнее… и это очень заметно… Разницу видите?!…
Работа по раскрутке — оскорблять и унижать людей???!!!
Что это?!
…. так ведь здесь многие замечали, что после вступления в переписку с Натальей количество комментариев взлетает… посмотрите хоть на эту тему…уже 542 комментария… а по самой теме о разводе Кержакова комментариев кот наплакал… И всё благодаря Наталье… и ведь у скольких людей её комментарии отклик находят!!!…..
Пока не вижу тут особой переписки с Натальей. ..)
Безумный спам «Дафны», поздравления, ваша переписка со мной, Никой и Еленой…
Когда Елена, наконец, уже удалится отсюда, сможете тогда спокойненько все и обсудить с Натальей..)
Мила, я удалюсь отсюда не скоро 🙂
Вы очень добрая к Анне..)))
Без вас ей пришлось бы тут беседы беседовать с самой Натальей…
Поверьте, их внезапная ‘любовь’ очень быстро бы закончилась. …))))
… Мила, пожалуйста, не утрируйте с ‘любовью’…
Может, Вы и правы… и Наталья именно поэтому и не вступает в переписку со мной… чтоб не дать Вам сатисфакции… Я же, со своей стороны, совершенно готова Вам ее не предоставить 🙂 …
Это не благодаря Наталье, а благодаря интригам Людмилы (Милы) с компанией! Вы посчитайте, сколько комментариев приходится на их долю. Наталья спуску не даст, за что и подверглась травле с их стороны. Вы же сами все это наблюдали.
Мало ли кто и что писал тут на форуме в обсуждениях, или выясняя отношения. Одним словом, бабы! НЕ нравится человек — обойдите его стороной, не комментируйте, просто промолчите. Но ведь они сами всей кодлой (простите) нагнетали обстановку. Сейчас ищут каких-то клонов, собирают компромат из постов Натальи. Вы-то, Анна, зачем во всем этом стали участвовать? Недавно Ваша позиция была прямо противоположная. И далеко не все согласны с их деятельностью. Берут количеством. Одним словом, стая.
Ещё раз: находят отклик не её комментарии, а скорее, их безсовестность, когда на глазах переворачиваются факты с ног на голову, недавно просто клинило от их наглости, теперь это пламенные борцы за правду. Анна, перестаньте вестись на этот бред. Андромеда — это Андромеда, Дафна — это Дафна, Наталья — это Наталья в единственном числе, Сударыня — это Сударыня. А вот некая НЭТ — это , действительно, клон. Чей-то из их компании. Кстати сказать, Наталья выше всех телодвижений данных дам. Она не рыщет по всему интернету в поисках компромата.
Вы восклицаете: вы что-же, ставите меня на один уровень с Натальей? Что в этом оскорбительного? Я её УВАЖАЮ за прямоту, за то, что в ней нет хитрости. Далеко не факт, что всё, что задумали дамочки, сейчас избавившие форум от своего присутствия, ибо открыли мэйл, сбудется. Потому что не в силе Бог, а в правде Бог.
«православная инквизиция», окстись!!!
… Ну хорошо-хорошо, Валентина, пусть они будут отдельные люди… а так я с Вами во многом согласна… а впряглась я опять во всю эту тягомотину просто потому, что опять почувствовала, что Наталья и Дафна ))) нуждались в поддержке… Видите, как я ‘их’ сегодня на себя отвлекла?! Все ж ради поддержки Натальи… А у неё не только ‘темная’, но и ‘светлая’ сторона есть и я это вижу… иначе меня бы здесь не было…
Да, нет, знакомые обороты…
Тут Татьяна была, стала первой :
Оценка комментария: Thumb up Thumb down -3
…. так ведь здесь многие замечали, что после вступления в переписку с Натальей количество комментариев взлетает… посмотрите хоть на эту тему…уже 542 комментария… а по самой теме о разводе Кержакова комментариев кот наплакал… И всё благодаря Наталье… и ведь у скольких людей её комментарии отклик находят!!!…..
Убрать Кержакова, а Наталью на Марго заменить 🙂
… Не совсем поняла насчёт Татьяны…. А Марго, да, может запросто раскрутить… К сожалению, она не очень часто комментирует…
В чем тогда проблема? Раз она тут на з/п 🙂
…Так знать бы наверняка, тогда другое дело…
Елена, ау-у-у!!!! ))))
Надеюсь, это был риторический вопрос????? )))))
Я вас чтой-то 2 дня как не узнаю…)))
Вы же за ИГНОР всегда были.
Единственное разумное решение. ..
Игнор Наталье.
И против сбора компромата в несколько томов.
Пора…
…Спасибо хоть на этом, Елена… и хочу надеяться, что я Милу просто неправильно поняла…
Уважаемая, все правильно ты поняла… 🙂
… Опять на ‘ты’?! Гору за собой почувствовали?!
Ох, Елена… 🙂
Не, за тобой 🙂
… А я несу свой крест… Так Вы, вроде, писали, что верующая… точно?!…
… Мила, это Вы меня предлагаете игнорировать?! А как же Ваша, как говорит Юля ‘интеллигентность’?!…
Нет, вас игнорить не предлагала, но на эти завтра
40 постов от вашей ‘подзащитной’ могут последовать. ..) Надоело ахинею читать, извините…)
….эти вопросы. ..
… Спасибо хоть на этом, Мила, но Вы же всегда можете просто не читать… ничего не потеряете…
Анна, Вы простите меня, что вмешиваюсь. Но открытый форум предполагает и некоторое вмешательство. Я никак не пойму, почему ВАс так безпокоят их игноры? Ну будут Вас, меня игнорировать, слава Богу. Меньше мышиной возни. Почему Вы так зависите от мнения посторонних?
…Да нет, Валентина, не столько беспокоит, сколько хочется понять что есть что… чтоб правильную линию поведения выбрать…
Ладно, пусть убогие хоть результатами троллинга похвастаются… 🙂 🙂 🙂
Была всегда Еленой первой,
До посинения манерной.
На книксене отклячив зад,
Приветствовала всех подряд.
Теперь же, сочиняя бредни,
Предстала хамкой распоследней
И лихо говорит ей ТЫ»-
Ну прямо гений мразоты.
Оклемалось… и захрюкало….
И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То здесь Милка скребёт всяку хрень,
Андро,Халю да Ленкина тень
Воду в ступе толкут целый день.
А недавно две мамзели,
Юлька с Никою- запели:
— Неужели
В самом деле
Компроматы
Погорели?
— Ах, в уме ли вы, мамзели?
Компроматы не сгорели,
Все, родные, уцелели!
Вы б, мамзели, не галдели,
А отправили на деле
Свой донос.Что погрустнели?
Что душевно поплохели?
Но не слушали мамзели
И по-прежнему галдели:
— Неужели
В самом деле
Мы Наталью
Не уели?!
Что за глупые газели!
Всем мозги проесть успели.
пехотка, чертыхаешься?!
не помогает тебе «валин крест»☹️
а как лихо клоны твои беснуется)))))
смешные))))☺️
Ты,Халю,лебеды объелась,
Твоё сознанье помутнелось,
Ведь лебеда что наркота
На мозг влияет завсегда.
Беги клОнов моих душить,
Раз не дают спокойно жить.
Смотри, мой клон в твоей постели.
Ну, покажи себя на деле!
моя лебеда благоухает, бабочки пархают над ней и пчёлки,
а вот твой огород смердит от собственных твоих отходов жизнедеятельности☹️ Фу!
пехотка рейтузовна садомазова, давай грызи «вкусняшки» свои вонючие)))
Это от того у тебя губёхи опущены вниз и в глазах кровушка наливается)))) от «витаминчиков» с грядок твоих вонючих?!
Фу!
а имя своё родное то помнишь? Ааа!
но это не надолго)))
Ты уже на пороге маразма пехотушго скудоумное))))))
Давай напрягайся))) рядись)) и стишата свои дебилоидные не забудь вставить✌️
⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔
Да нет,Халю,налицо навязчивый образ,заклинило тебя, я каждый раз тебя новой гранью к людям поворачиваю, чтобы во всех деталях тебя запомнили, и ни разу не повторилась, а ты как испорченная пластинка:»вонючая пехотка рейтузовна садомазова»,ы-ы-ы-ы-ы,»вон…»,-и поехало.
Галина , я Вас не могу узнать. Несколько месяцев назад Вы писали интересные комментарии, спорные для меня, но Ваша (.) зрения вызывала уважение. Что сейчас с Вами случилось? Каждое слово- ненависть. Объясните?
Таня или Аня, в Лондоне или в Задрыщенске, как хотела? Смешат девчата, а сдуру, всерьез 🙂
… Елена, ну Вы уже в открытую троллите, а я с Вами, как с человеком пытаюсь разговаривать…
А Вы считаете, что не нужно к Вам так относиться?!…
Хоть бы один ответ был достойный. Нет, все послания в стиле «бандерлоги и компания».
Анна, отрабатываете здесь знания по психологии …(у меня муж тоже так умеет, долго.. и ни о чем, ‘включает’ когда нужно, обучался, как и Вы), вчера пораньше легла, сегодня еле дочитала вчерашнее…
Все старо…, как в басне «Кот и повар», персонажи узнаваемы…
Все по-разному развлекаются….
Девушки, уже новый клон ‘Гость’ в теме Доренко подхваливает ‘творчество’ ‘поэтессы’…))))
Умора!))))
Давайте просто поржем! ))))
Неужели по 25 кругу эту шарманку с объяснениями заводить. )))))
… Ника, а я принимаю Ваш комментарий за комплимент… Помню Вы писали, что у Вашего мужа близкие хорошие отношения с матерью…
для меня это описание качеств хорошего человека… Спасибо за сравнение…